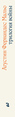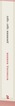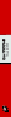роман «всевышний» — многослойное повествование, которое ведется от первого лица сотрудником органов записи актов гражданского состояния анри Зорге. Главный герой описывает череду событий личной жизни (отношения с сестрой, матерью и отчимом, контакты с соседями, новыми знакомыми), которые разворачиваются на фоне государственно-политического кризиса, вызванного эпидемией смертельной болезни. Эти встречи сопровождаются рассуждениями о законе, государстве, порядке в форме полемического диалога. поначалу ясно определенная позиция Зорге в отношении правопорядка со временем становится для читателя одной из главных загадок романа; все усложняется рядом иных особенностей повествования. читатель может: 1) гадать о причинах садомазохистской природы отношений Зорге с сестрой (луизой); 2) задаваться вопросом, почему защита Зорге государственной власти привлекает бунтарей (буккса и дорта); 3) теряться в причинах, почему женские фигуры накладываются друг на друга и совпадают с образом закона (сестра, соседка мари скадран, медсестра Жанна Галгат). Эти и иные точки опоры в романе лишены связности, логичности и прозрачности. в результате рождается эффект неразличения между реализмом повествования и тем, что обрушивается в подобие сюрреалистического бреда, а основная тема романа — закон — основательно затемняется. единственный лежащий на поверхности ориентир — философский контекст. в письме букксу, с которым ведется полемика на протяжении всего романа, Зорге описывает силу закона так, что здесь узнается гегелевская тотальность, поглощающая все противоречия и отрицания:
мне бы хотелось убедить вас, что, нападая на учреждения, администрацию, весь видимый или скрытый аппарат государства, вы идете по ложному пути. <…> если вы их упраздните, то не упраздните ничего. <…> Государство повсюду. <…> Престиж государства, любовь к нему и, прежде всего, абсолютная с ним смычка, проявляющаяся через уклонение и неповиновение, связывают каждый ум, так что он не видит ни малейшей трещины в огромной конструкции, от которой он неотделим. <…> Закон коварен… <…> Он — сама прозрачность и при этом непроницаем. Он — абсолютная истина.
До определенного момента отношения Зорге и буккса представляются антагонистичными (защитник закона и ниспровергатель), что помогает читателю ориентироваться в зыбком нарративе, однако со временем эта оппозиция распадается: будто вирус, вызвавший эпидемию в романе, поражает не только героев, но и идеи, его пронизывающие. читательская растерянность достигает предела, когда бунт буккса принимает форму закона:
…если они полагали, что находятся на стороне буккса и в сговоре с теми отщепенцами, за которыми присматривают, то сам Буккс, ослепленный обидой, действовал от имени закона, от коего хотел избавиться. и весь этот хаос, все это безумие служило власти, для которой тем самым все шло как нельзя лучше.
Так, в романе реализуется опыт мутации, где взаимоисключающие друг друга позиции вязнут в энигматичных рассуждениях. когда буккс решил открыто показать, что он главный… он ожидал, что его не признают. но этого не произошло. Официальные лица, доказывая тем самым, что действуют с ним заодно, добросовестно ему помогали. <…> его не беспокоили, его не одобряли, — на него не обращали внимания. События вскрыли пустоту между двумя властями. Раненый закон, видя, что один из его органов необъяснимым образом поражен, собирался в тишине с мыслями, дожидаясь, пока тот восстановится (396). мир в романе, поначалу опирающийся на всесилие закона, к концу утрачивает определенность и походит на горячечный бред. если «всевышний» воплощает политико-философский диалог с Гегелем, то остается гадать, какова природа этого диалога. почему в романе все оборачивается не тем, чем оно представляется изначально?2 болезнь поразила закон и тем самым его преодолела или, напротив, иммунитет закона настолько велик, что эпидемия лишь подтверждает его всесилие? если Зорге — это торжество закона, то как понимать финальные строки «всевышнего»: «теперь, теперь-то я заговорю» (466), звучащие после убийства героя? не удивительно, что роман оказался одним из самых комментируемых произведений бланшо. дж. Грегг видит ключ к тексту в том, что он представляет собой дневник3; с. льюис, опираясь на работы Ж.-л. мариона, вычитывает во «всевышнем» «эротический феномен»; с. Зенкин, исследуя «катастрофическую природу образов», объясняет «с ее помощью категории сакрального»4. Экстравагантность этих размышлений дополняет подходы к роману, ориентирующиеся на политико-философскую проблематику и диалог с Гегелем. к. Харт называет «всевышнего» романом о воплощении гегелевского государства; л. Хилл показывает, что через «феноменологию духа» в него проникают мотивы «Орестеи» Эсхила и «антигоны» софокла; льюис утверждает, что «многие плодотворные прочтения романа были сосредоточены на политических или политико-философских идеях, сформулированных некоторыми персонажами, и на отношении этих идей с мыслью Гегеля в интерпретации александра кожева и Хайдеггера»5. Основу такой оптики заложили прочтения п. клоссовски и м. фуко. для клоссовски в романе речь идет об исследовании онтологического различия между сущностью и существованием, где одной из подсказок выступает хайдеггерианское имя героя (Sorge), означающее заботу6. в работе фуко «мысль извне» письмо бланшо понимается как пространство, где решаются философские вопросы, не доступные философии. Языку такой литературы приоткрывается «опыт внеположности», ускользающий от всеобъемлющего языка рефлексии. согласно фуко, проза бланшо проверяет на прочность диалектику Гегеля и достигает того, что философская рефлексия поглотить не в состоянии: «…язык бланшо воздерживается от диалектического отрицания. <…> а отрицать, как делает бланшо, свой собственный дискурс — значит беспрестанно выводить его вне самого себя, каждое мгновение отбирать у него не только только что сказанное, но и саму способность это высказать»7 . Особенность этих прочтений — движущихся от политико-правовой проблематики к онтологии языка, от идеи закона к вопросу о сущности литературы, от угроз тоталитарного государства к освобождению средствами письма — в том, что они связывают «всевышнего» с теориями бланшо и иных мыслителей, однако из них испаряется опыт истории и биографическое измерение романа. к. бидан указывает, что работа над текстом «велась в течение нескольких лет», была закончена в 1947 году и что он может быть прочитан «в политическом, теологическом и психологическом смыслах», представляя собой «самый откровенно политический, реалистический и семейный роман [бланшо]»8. Однако бидан предостерегает, что невозможно прямо соотнести отношения анри Зорге с семьей с бланшо. некоторое количество различий исключает такую возможность (ранняя смерть отца, повторный брак матери и т.д.); и несмотря на отдельные моменты сходства (одиночество, болезнь, опыт письма, некоторого рода «идиотизм» в смысле достоевского), герой не является портретом бланшо. «всевышний» не является ни автобиографическим, ни семейным романом9. при таком подходе связь произведения с историей и опытом жизни бланшо будто отсутствует, а рефлексия о законе — скорее философский трактат в литературной форме. мне представляется, что есть возможность прочитать «всевышнего» так, чтобы, не исключая философскую проблематику, прояснить его загадки в контексте личного опыта бланшо. речь идет о поиске точки, где теоретическое измерение книги совпадает с автобиографией писателя. методологически я ориентируюсь на подход, предложенный дж.м. бернштейном, который показал, что автобиография в современном романе — не частный случай биографии, а трансцендентальное условие этой литературной формы в принципе. речь идет об автобиографической онтологии, которая «снимает» (в гегелевском смысле) противопоставление действительности и вымысла, фактов и их отсутствия10. Отталкиваясь от этого подхода, далее будет предложена экспликация двух сюжетов: 1) разбирательство бланшо с философией Гегеля будет прочитано как 2) особый жизненный опыт, из которого складывается автобиографическая онтология, явленная во «всевышнем».