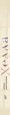- Дмитрий Бавильский, «Иностранная литература»
Ночная песнь странника
Роман Андреса Неумана, оригинальный, ни на что непохожий (хотя, с другой стороны, и окликающий массу жанровых и дискурсивных ассоциаций, связанных с персональным читательским опытом каждого), построен на «режиме неопределенности», тянущейся до самого последнего его слова. Именно поэтому главной загадкой книги оказывается название — «Странник века», непонятно к чему приложимое.
Дело в том, что разгадка заглавия тесно связана с работой «режима неопределенности», которым начинается практически каждая книга. Первые страницы любого романа читатель автоматически прогоняет по оттенкам всего своего предыдущего опыта, пытаясь определить его на конкретную дискурсивную полку. И как только определение жанра складывается в читательской голове, замковый камень названия щелкает, уступая место легкому скольжению читательского узнавания по тексту.
Первые страницы любого романа поэтому и кажутся самыми сложными и, что ли, темными — покуда автор еще не сдал окончательно карты «жанровой модели», читатель вынужден тащиться сквозь текстуальный бурелом, откликаясь на любые жанровые засечки и выделяя малейшие детали, способные «выстрелить» в дальнейшем. Может, они затем сыграют важную роль, а могут оказаться действительно второсте- пенностями — только развитие фабулы покажет.
Но есть ведь некая закономерность в применении и протяженности режима неопределенности: сколько разубеждался — чем изощреннее и «коварней» автор, тем дольше длится дискомфорт подсознательной читательской напряженности, когда читатель хватается то за блачиться как можно скорее, обнаруживая бахтинскую «память жанра», следы привычного и «знаки узнавания» уже на первых страницах. Мало кому удается «протащить» читателя юзом хотя бы до четверти своего текста, и лишь самые умелые, самые отважные держат, способны держать, читателя «в непонятках» до самого конца. Такую литературу для себя я и называю «поисковой».
Для предельной длительности «режима неопределенности» необходим особый навык работы с суггестией — с неокончательностью суждения и двойным-тройным кодированием его. Когда один и тот же сюжетный ход или фабульный жест способен прочитываться на самых разных уровнях, порой с противоположным посылом. Аргентинский поэт и прозаик Андрес Неуман взаимодействует с суггестией как завзятый сюрреалист, начинающий с одного, но фантастического допущения: сред ненемецкий город Вандернбург, «между Саксонией и Пруссией», куда со своими баулами и чемоданами прибывает в почтовой карете («...колеса сплевывали грязь...») переводчик Ханс, не стоит на месте, но постоянно движется по окрестностям. А также внутри себя...
Значит ли это, что сразу Кафкой повеяло? Тем более что из Ван дерн бур га почти не возможно уехать. Движущийся транзитом из Берлина в Дессау, Ханс планирует всего-то переночевать на гостином дворе одну ночь, максимум две, да застревает здесь едва ли не на год, влюбившись в Софи, чужую невесту главного местного богатея. У Софи по пятницам собирается изысканный салон, куда Ханс попадает по случаю — он интеллектуал и переводчик, на дворе — 1827 год, большим издательством ему заказана антология актуальной европейской поэзии, которую они с Софи и начнут переводить под подслеповатым присмотром преданной служанки прямо на постоялом дворе, сочетая поэзию с занятиями любовью (бонусом — несколько изумительных эротических сцен).
Перевод, переплавка одного вида деятельности в другой (сублимация, если вспомнить психоанализ), к примеру литературных усилий в любовные игры, оказывается важнейшим лейтмотивом романа — и далее станет понятным почему:Позднее они стали импровизировать. Вслух это не обсуждалось, но при встрече, едва соприкоснувшись языками, они чувствовали настроение друг друга и позволяли себе предаться тому занятию, которое казалось им более неотложным. Таким образом, не создавая дополнительной рутины внутри рабочей рутины, они никогда не расслаблялись, хоть и привыкшие друг к другу, но все же в чем-то незнакомцы. Даже само это чередование заключало в себе определенную сексуальность: иной раз Софи в своих порывах проявляла такой деспотизм, почти грубость, что пугала и изумляла Ханса, зато в других случаях предпочитала поднырнуть под него и отдаваться плавным, набирающим темп колебаниям, своего рода интенсивному отдыху, в котором тоже находила упоение (с. 424–425).
Католическое княжество на протестантской территории, Вандернбург движется не только по ландшафту, окружающему город (неприступность бюргерского сообщества, куда чужаку проникнуть практически невозможно, если, разумеется, не поможет случай, таким образом способный заместить собой кафкианский замок), но и внутри себя — Ханс и его испанский друг Альваро (еще один чужеземец, наблюдающий местные нравы в духе вольтеровского Простодушного) постоянно теряются на его улицах, регулярно меняющих дислокацию. Совсем как в андерсеновской сказке про сильный ветер, поменявший местами все вывески. Впрочем, заведения в Вандернбурге тоже скачут с места на место и меняются местами. Особенно питейные.
Так что, как видишь, Вандернбург никогда не знает, где проходят его границы, сегодня они здесь, завтра — там (видимо, поэтому, пошутил Ханс, я постоянно в нем теряюсь?), Альваро вдруг стал серьезным: С тобой тоже это происходит?, у тебя тоже иногда возникает это ощущение? (что ты имеешь в виду?, что улицы, скажем так, перемещаются?), именно! Я никому не решался в этом признаться, мне было просто стыдно, но я уже взял себе в привычку выходить из дома намного загодя, на тот случай, если что-то опять окажется не на своем месте. Я думал, я один такой! Твое здоровье.
Алкоголь начал проделывать злые шутки с языком Ханса, он мазнул ладонью по плечу испанца. О, пр-рошу пр-рощения, я тебя толкнул?.. (С. 91–92)Как видно из этого отрывка, полноценных диалогов, в привычном нам виде, в «Страннике века» не существует. Реплики отдельных персонажей внедрены в описания через запятую, и переходы от звучащей речи к сюжетным (и не очень) подробностям не всегда очевидны. Этот редко встречающийся прием, с одной стороны, как бы намекает на причастность романа к традициям модернистского письма, с другой стороны, работает на «зыбкость» восприятия всего, что творится в странном Вандернбурге, способном соткаться буквально из ничего. В том числе из слов.
Карта Вандернбурга устаканится к финалу, когда Ханс поймет, что, для того чтобы попасть в точку цели, следует выбрать максимально длинный, долгий путь. Вот и Неуман в «Новом двенадцатисловнике рассказчика» («Иностранная литература», № 10, 2010, перевод Татьяны Ильинской) из сборника «Свечение» формулирует: «Не стоит бояться описаний, они не отклонение от пути, а кратчайший путь к цели». А еще: «Хороший сюжет никогда не теряет ни минуты сюжетного времени по напрасну».
Идея места, засасывающего странника внутрь, в современной литературе идеально отработана в романе «Безутешный» Кадзуо Исигуро, в котором известный английский пианист Райдер прибывает в неназванный среднеевропейский городок с рядовой гастролью, чтобы застрять в его лабиринтах на достаточно длительный период времени. Совсем как в «Страннике века», в «Безутешном», созданном «по логике сна», как писали английские рецензенты, постоянно подворачиваются те или иные обстоятельства, требующие немедленной и пол ной включенности главных героев, дабы отъезд отложился еще на какой-то неопределенный срок.
Хотя Исигуро, кажется, навсегда исчерпал тему вампирических городов, Неумана какой-то период развития фабулы прибегает к схожему приему: помимо повышенного количества суггестии, сюрреальность происходящего (при том что никаких особенно невероятных событий в Вандернбурге не происходит — все, что автор описывает в книге, вполне способно произойти в заштатном городе со средневековым мощеным центром, и даже полуночный маньяк, за которым, до поры до времени, охотятся местные полицейские, отец и сын Глюки, за рамки реальности не выходит) в «Страннике века» обеспечивается постоянной меной жанровых признаков.
Клаустрофобический «заезд главного героя», исполненный в гоголевско-кафкианском стиле, меняется на «роман карьеры» и «роман воспитания», почти мгновенно меняющихся на описания пятничного салона и ночного нуара, а тот — на типичную (классическую, трагическую) историю любви. То, по-французски, либертариански бесстыжую, то, по-английски, викториански кружевную. Жанровые и стилевые модели, от романтического двоемирия до декадентской разочарованности, не дают заскучать даже в самых, намеренно затянутых, эпизодах, вроде детально прописанных дискуссий в салоне Софи, отчасти напоминающем бдения «кланчика Вюрдеренов».
Именно эти, интонационные и ритмические, перетекания из дискурса в дискурс создают дополнительную, подчас неосознаваемую цепочку внутритекстуальных событий. Подобно бриллианту особой огранки, конструкция «Странника века» постоянно поворачивается к читателю новыми, другими гранями. Каждую из них хочется обозначить как-то особо, исходя из личного интерпретационного опыта. Осознавая при этом, что у других читателей схожие фабульные ниши могут быть заполнены совершенно иными примерами, а то и — отсутствовать полностью. Но Неуман намеренно затевает игру фантомных, мерцающих аналогий, сопровождающих знакомство с романом от самой первой страницы до его тихой (не взрывом, но всхлипом) коды. Без этих аллюзий и битых отсылок, при всей их тщетности, тут вообще никак. Они создают ощущения дополнительного объема и избыточной складчатости. Признаю собственную субъективность своих примеров, но и продолжаю их множить дальше, чтобы передать читателю этой рецензии следы собственных замешательств.
Причем, надо честно признать, что каждый раз, придумывая сюжетным линиям «Странника века» потенциально эффектные, да и, чего уж там, «головокружительные ходы», стараясь обогнать авторский замысел, я постоянно обманывался. Неуман, писавший этот роман пять лет и, таким образом, отвечающий буквально за каждый элемент конструкции, всегда выбирает самый средний и будто бы нейтральный вариант развития сюжета, наполненного экзистенциальными опасностями для тайных любовников, разделенных демонстративной пропастью социального неравенства, или же потенциальных жертв ночного маньяка, который, кажется, так никого не загрыз до смерти. В книге про неспокойные постнаполеоновские времена войн, эпидемий и романтического двоемирия (где, как известно, «ночная кукушка» почти всегда перекукует воплощения дневные и безопасные), до отказа набитого «заряженными ружьями», автор убивает (внимание, спойлер) только одного, сугубо второстепенного, персонажа, словно бы специально придуманного для того, чтобы пустить в расход. И это, разумеется, фигура, олицетворяющая «гений места», что бы это в данном случае ни значило.
Словно бы Андрес Неуман настолько любит своих героев, даже самых случайных из них, что не способен позволить ночному маньяку хотя бы раз вволю насытиться плотью вандернбургских барышень. Ну или, на худой конец, позволить прозреть Руди (богатейший и влиятельнейший жених Софи), постоянно крепнущему в своих неслучайных, вполне оправданных, подозрениях. Но дело в том, что, взвешивая едва ли не на аптекарских весах составляющие нарратива, Неуман бежит крайностей и сюжетных акцентов. Он ведь не увлекательную историю рассказывает, но творит нечто иное, зашифрованное в заголовке, а также проиллюстрированное картинкой обложки, где одинокий странник, показанный со спины, удаляется вглубь бескрайнего и пустынного пейзажа с монументальными, нависающими над дорогой облаками.
Здесь, конечно, идеальным стало бы воспроизведение одного из «мистически насыщенных» пейзажей Каспара Фридриха Давида, вновь переоткрытого в честь юбилея и вошедшего в нешуточную выставочную моду, однако Ник Теплов, постоянный художник Издательства Ивана Лимбаха, выбрал для иллюстрирования «духа книги» не менее эмблематический холст Фердинанда Бруннера «Странник», написанный в самом начале ХХ века. Все верно и крайне тонко: картины Каспара Фридриха Давида маркируют аутентичный романтизм, тогда как у Андреса Неумана, аргентинского прозаика и поэта, ныне проживающего в Гранаде (читай, патентованного чужака, смотрящего на все со стороны), это — стилизация и моделирование «большого» и «классического», «пухлого романа», принципиально не имеющего никакого жанрового или фабульного аналога и с нуля изобретаемого на наших глазах. В России последнего времени с подобных оммажей начинали Антон Уткин и Михаил Шишкин, а тренд подхватил и продолжил Александр Соболев. Его романы-пастиши «Грифоны охраняют лиру» и «Тень за правым плечом» тоже вышли в Издательстве Ивана Лимбаха.
Поисковая литература полна перекличек, раз уж поиски и разработки на интеллектуальной передовой, как правило, направлены в одну сторону. Роберто Боланьо, схожим образом скрещивая неспешный сюрреализм с открытиями «магического реализма», предсказал Андресу Неуману большое будущее, которое поэт, плавно перешедший к прозе, постепенно воплощает в жизнь. Жанровый калейдоскоп «Странника века» не оставляет ощущения суеты и клиповой нарезки из-за цельности «способа существования», то есть фундаментальной, базовой идеи текста, а также из-за особого рода точеных метафор, которыми автор словно бы прибивает отдельные картинки и мизансцены к твердой и по-средневековому толстой стене. Именно эти «уколы точности» работают на впечатление единства и правдивости изображений, какими бы странными, непредсказуемыми и нелинейными они ни возникали. Схожим образом, скрепляя разрозненные детали в неделимое единство, строила свои первые романы Ольга Славникова.
Между тем город цепко и даже как-то коварно держит в руках своих (или что там у него) не только Ханса с Альваро, но и всех своих жителей — и это уже даже не Кафка, но скорей Томас Манн с замкнутым хронотопом «Волшебной горы», на которую «Странник века» начинает походить, когда в пятничном салоне Софи разыгрываются интеллектуальные споры на самые разные темы, от Наполеона до женской эмансипации и мод в современном искусстве (поэзия, тем более такая, как здесь, романтическая, периода «бури и натиска» — это ведь тоже вид изящных искусств?): Неуману будто бы важно реконструировать (смоделировать, передать) свод представлений и правил людей из первой половины XIX века. Совсем как Мишелю Фуко, моделировавшему в своих трудах эписте- мы Средневековья и даже Античности, «Странник века» воссоздает строй мысли и, например, аргументации «представителей романтической эпохи» в жанровых формах, близких литературе того времени.
И тут как не вспомнить этапный роман Игоря Вишневецкого «Неизбирательное сродство», каждая глава которого является оммажем тому или иному романтическому дискурсу. Схожим образом Вишневецкий моделирует восприятие жанровой системы первой половины XIX века (тут у него маячки не только из эпохи «бури и натиска», но также из времен «крови и почвы», а к финалу «Неизбирательное сродство» добирается до бидермайера, расцветающего у Неумана подлинно пыльным цветом, игрой шарманки, а также тайнописью на языке цветов) из нынешних времен, словно бы выстраивая вневременную конструкцию в духе семиотических моделей Умберто Эко или же Лорана Бине, где именно Роберто Бола- ньо, обожающий игру кодами, занимает промежуточное и, можно сказать, связующее звено в эволюционной цепочке развития интеллектуального поджанра. Основу его как раз и составляют цепочки никуда не ведущих, «битых» отсылок.
Так что кажется совершенно неслучайным, что «Избирательное сродство» Гёте (а какие могут быть романы о немецкой старине без упоминания тайного советника Веймарского двора?) вспоминается в «Страннике века» дважды....Нет смысла делить авторов на классиков и романтиков; к примеру, как охарактеризовать Гёте?, весьма романтический классик?, так, что ли?, или взять самого Гюго, который среди классиков выглядит романтиком; что ты об этом думаешь? Я согласен, ответил он, и думаю, что романтики — это просто необузданные классики. Что меня огорчает в таких еще молодых Гюго и в том, другом, Ламартине, так это их рьяный монархизм и христианство, словно Шатобриан стал для них чем-то вроде эпидемии! Это правда!, засмеялась Софи, и чем больше они витийствуют, тем более праведным представляется им избранный путь. А Гюго совсем неплох, верно?, воскликнул Ханс, перелистывая книгу, он кажется мне более одаренным, чем остальные, хотя есть в нем что-то, как бы это сказать, что-то раздражающее, согласись! (С. 374–375)
Тут бы и закончить, но я так и не разгадал заглавие. Возможно, оно связано с профессиональной деятельностью Ханса, составляющего антологию современной ему европейской поэзии. Уединяясь на гостином дворе и перемежая переводы любовными ласками, Ханс и Софи начинают с родных немецких авторов, затем переходят к французам и англичанам, разумеется, с включением стихотворных отрывков и рассуждениями о республике мировой литературы, состоящей из национальных школ с их неповторимыми особенностями. Альваро помогает любовникам с испанскими именами, о Пушкине и русских пиитах Ханс вспоминает едва ли не в самую последнюю очередь. Но тем не менее вспоминает. И переводит. И включает. Объясняя Софи почему это так важно.
Я бы упомянула, сказала Софи, сразу берясь за список, Жан Поля, Каролину фон Гюндероде, братьев Шлегель, Доротею и, конечно, Меро. Также мы могли бы рассказать о песнях фон Арнима, у которого, кстати, здесь неподалеку замок, и Клеменса Брентано. Не забывая и о песнях его сестры Беттины, которые очень хороши (не читал, признался Ханс), и очень зря, сударь мой... (С. 459)
Разумеется, это самая филологическая часть «Странника века», и любовные страсти, понятным противоходом, должны, по всей видимости, уравновесить и разнообразить литературоведческие изыскания. Вообще, как я заметил, методу Неумана в этом романе свойственно методичное чередование тем и людей, мест и настроений — что будто бы насыщает его книгу «эпическим дыханием». Ну а там, где Ханс и Софи, в качестве метарефлексии, описывающей романные техники самого Неумана, рассуждают о гениях «Озерной школы», «Странник века» начинает напоминать те части недавно опубликованного по-русски «Квартета Фредерики» Антонии Байетт, где Фредерика читает лондонским студентам лекции о Вордсворте и Теннисоне. В «Живой вещи» и в «Вавилонской башне» (соответственно, вторая и третья части «Квартета Фредерики») именно увлеченность поэзией и детальный разбор виршей любимых поэтов оказывается главной возможностью перевода внутреннего мира во внешний; на гляд но го ов неш не ния его.
Филологический роман, фиксирующий моды и интеллектуальные увлечения того или иного века (чаще всего актуального, именно что нынешнего), лучше всего приспособлен для передачи «внутренних токов» эпохи, ее ментального наполнения, тем, вполне осознанно, и противостоит «историческому роману», отталкивающемуся от конструкций событийных, внешних и отвлеченных от конкретных людей. История стучится к своим жертвам насильно, тогда как персонажи «тотального романа», вроде книг Неумана или Байетт, более всего известной своими стилизациями на темы викторианских поэм, стихов и писем в романе «Обладать», излучают интеллектуальную подкладку своего времени сами, без малейшего принуждения. Естественными эманациями души... Ну и, соответственно, тела. Неслучайно в «Страннике века» эротика занимает важнейшее тематическое место. Не менее важное, чем поэзия.Ах да!, улыбнулся он, и напоследок у меня остался самый лучший: Новалис (твой Новалис, возразила Софи, тоже жил в сплошных снах), верно, но его интересовали не фантазии, а неведомое. Его мистицизм был, так сказать, практического свойства. Мистицизм для анализа происходящего. (Это я могу понять, сказала она, но вот что меня удивляет: разве мы говорим не о религиозном поэте?) Нет!, именно!, в том-то и дело!, я думаю, что с Новалисом все обстоит точно так же, как с Гёльдерлином: его молитвы показывают, что земные условия непреодолимы, и когда он говорит: «Я чувствую в себе божественную усталость», эта усталость, она здешняя, это блестящее прозрение... (С. 462)
Стихи являются для Ханса и Софи, как затем, через полтора века, для Фредерики, ее студентов и друзей, музыкой любимых эпох. Их кровью и почвой. На первый взгляд, «Странник века» не столько логичен, сколько ассоциативен. Золотые гвоздики безупречных метафор (особенно много их в самом начале, когда текст еще неважно стоит на собственных ампирных ножках и необходимо интонационное подспорье извне) скрепляют сложноустроенные фрагменты в единый и будто бы неделимый цикл. Перевод Ольги Кулагиной, впервые опубликованный в шести (!) номерах «Иностранной Ллитературы» 2022 года, кажется безупречным, конгениальным и вот уж точно музыкальным. Раз уж этот роман и в самом деле о музыке, которая остается в истории «словом всех жизней», существовавших или несуществовавших когда-то. Раз уж все в том же «Свечении» сказано: «Персонажи появляются в рассказе почти случайно, проживают свою жизнь на наших глазах и... остаются жить вечно».
Оказывается, их, живущих в 1827-м, который, если изнутри смотреть, непонятно еще чем закончится, можно разыграть, как по нотам, изучив массу первоисточников и съездив в места предполагаемых встреч. В одном из интервью Неуман признается, что путешествовал по землям северо-востока Германии в поисках ландшафтных и архитектурных прототипов. Его эссе так и называется: «Как придумывается город?» Составляется из конкретики, частностей и деталей, чтобы скрепиться затем золотыми гвоздиками метафор и музыкальными лейтмотивами (они же — интонационные и ненавязчивые, сюжетные повторы: «В здании рассказа детали — опорные столбы, а сюжет — черепичная крыша...») в единое целое истории любви. С встречами, немедленным счастьем и обязательными разлуками в уплату.
Это не столько очередная экспроприация XIX века, сколько попытка рассказать о веке нынешнем, используя дополнительные рамы и степени отчуждения, иначе зачем испанец пишет о Германии, да еще и в фантасмагорическом ключе? «Мистицизм для анализа происходящего». Кафкианские элементы, образующие сложноустроенные, трудноуловимые ментальные лабиринты, странным образом связались у меня при чтении «Странника века» в шубертовские фортепианные переборы. Уж не знаю почему, но неприступные стены готического замка словно бы заменила музыка, замерзающая россыпями на бегу. Когда я выяснил, что вокальный цикл Франца Шуберта «Зимний путь» сочинялся параллельно вандернбургской истории Ханса и Софи в 1827-м, а был опубликован год спустя, в 1828-м, все вдруг сошлось.
Литературных ассоциаций оказалось недостаточно. Живописных отсылок для «тотального романа» тоже мало. По всему так выходит, что «Странник века» задумывался Андресом Неуманом как подробный, максимально распространенный экфрасис музыкального цикла. Который становится для автора эмблемой не только романтического движения в культуре, но и всей первой половины XIX века, блуждающей «в лабиринте внутренних противоречий».
Оммаж и пастиш, иллюстрация и источник вдохновения, разложенный на возможности и приемы иного вида искусства. Не стихотворение и не эссе, не холст и не инсценировка или экранизация, но роман, пытающийся оставить то же самое впечатление, но совершенно другими средствами. Действительно удивительная, ни на что не похожая попытка. Вспоминаю жанровые аналогии (попытка переложить оперу в буквы у Джойса? Музыкальная основа «Форель разбивает лед» Кузмина?) и пока ничего объемного (цельного, толкового) вспомнить не могу.
«Красота в рассказе должна быть обоснованной, но само обоснование должно быть красивым. Прилагательные нужно бросать в рассказ, как семена в землю».Опубликована в журнале "Иностранная литература", № 9, 2025 г.
- Игорь Гулин, «Коммерсантъ»
Аргентинец Андрес Неуман — звезда современной испаноязычной литературы, а вышедший в 2009 году «Странник века» — его самое заметное пока что произведение. Это настоящий большой европейский роман, оммаж манновской «Волшебной горе», наполненный, впрочем, хитрыми играми с нарративом и жанром в духе великих соотечественников Неумана — Борхеса, Кортасара и прочих. Действие происходит в 1820-х годах, в выдуманном городке Вандернбург, расположенном где-то между Пруссией и Саксонией, куда приезжает молодой интеллектуал по имени Ханс. Город этот — магический, он постоянно меняет свое местоположение, и никто из однажды попавших в него уже никогда не может уехать. Обитатели Вандернбурга — носители странных идей и обладатели эксцентричных привычек. На протяжении 600 страниц Ханс вступает с ними в причудливые отношения (в том числе сексуальные: «Странник века» — до предела откровенный роман) и ведет философические диалоги. Казалось бы, эскапистский текст, но далекий XIX век становится призмой, сквозь которую лучше понятен наш XXI.
- Кристина Ятковская «Кинопоиск»
«Странник века» — роман-финалист многочисленных премий, его автор — аргентино-испанский писатель Андрес Неуман — обласкан критиками и воспет Робертом Боланьо. Действие происходит в начале 1800-х. В поисках ночлега на одну ночь главный герой, переводчик Ганс, останавливает свою карету в Вандернбурге, городе между Саксонией и Пруссией, которого почему-то нет на карте. Ганс задержится в городе надолго, а в романе развернутся очень странные дела и поднимутся поразительно актуальные вопросы.
- Лиза Биргер
Грандиозный роман 2009-го аргентинского писателя Андреса Неумана, получивший множество литературных премий. В 1827 году, в никогда не существовавшем и постоянно меняющем расположение городе Вандернбурге где-то между Саксонией и Пруссией, путешественник Ханс влюбляется в местную аристократку Софи. Вместе они переводят европейскую поэзию, говорят о литературе и страстно занимаются любовью. Перевод, поэзия и секс становятся здесь поводами для предельно открытого диалога и познания другого. А густой язык и погружение в европейскую прозу золотого века романа — возможностью счастливого эскапизма, когда современную историю получается перезапустить с самого начала.
Издательство Ивана Лимбаха, 2024
Пер. с исп. Ольги Кулагиной
Редактор: П. К. Добренко
Корректор: Л. А. Самойлова
Компьютерная верстка: Н. Ю. Травкин
Оформление обложки: Ник Теплов
Переплет, 600 с.
УДК 821.134.2-31«20»=161.1=03.134
ББК 84.3(4Исп)64-44-021*83.34
Н 57
Формат 60x901/32
Тираж 2000 экз.
18+