- ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «15»
Написал о новой книге Полины Барсковой* (*объявлена Минюстом РФ иноагентом). Там всё очень интересно: голландские художницы-акварелистки-естествоиспытательницы, неуёмные волеизъявления Петра, не(до)рожденный Петербург, Куншткамора, «Восковая персона» Юрия Тынянова и Тынянов, превращающийся в восковую персону, Беркли, калифорнийские бомжи, воспоминания о ленинградской юности и первых годах эмиграции. А вообще-то это книга о болезненной невозможности вернуться «в свой город, знакомый до слез» и попытка (весьма успешная) выйти из состояния языка, прилипшего к замерзшим железным перилам ТОГО города.
Полный текст: https://vk.com/@-203685470-polina-barskova-sibilly-ili-kniga-o-chudesnyh-prevrascheniya?subtype=primary
- Никита Елисеев
Каждый поэт ностальгирует по-своему. Один напишет: «Там от меня сегодня, видимо, осталось нечто вроде тени...» Поэтесса, филолог, историк блокады (один из лучших современных историков блокады), Полина Барскова, перелила свою ностальгию в межжанровое, многоплановое, многофигурное повествование.
В нем на равных действуют и взаимодействуют: Пётр I; художница и путешественница Сибилла Мериан, создательница изумительного альбома бабочек, гусениц, экзотических насекомых, хранящемся в петербургской Кунсткамере; дочь и зять Сибиллы, Доротея и Георг Гзель, одни из организаторов Кунсткамеры; Юрий Тынянов, автор самой необычной и лучшей повести о Петре «Восковая персона»…
И сама Полина Барскова, врастающая в американскую жизнь, как и положено врастать в жизнь, снизу, со службы в кафе, откуда по утрам надо выгонять спящих опоссумов шваброй, с ухаживанием за двумя обездвиженными женщинами.
- Ольга Ладохина, ВКонтакте
До открытия ярмарки заказала из Петербурга книгу, которая для меня спасение от отчаяния — Полина Барскова «Сибиллы, или книга о чудесных превращениях».
Она стала украшением ярмарки, по наблюдениям друзей-филологов, посетивших Гостиный двор.
Приятно, что мы в унисон с организаторами.
Книга Полина посвятила дочери Фросе, ровеснице моих студентов, бросилась бы рекомендовать, потому что тут про утраты, поиски и болезненном восстановлении связей человека с местом.
То, что переживает каждый в юности, иногда не справляясь.
И снова были бы мастер-классы с флористом для филологов, потому что одна из героинь книги Сибилла Мериан, по словам Н.И. Вавилова, перенесла даже запахи цветов на пергамент, у нее можно научиться объединять науку и творчество, и это самый верный путь к неповторимости созданного мастером.
Что дает силы укрепиться в своей правоте и жить дальше, не изменяя себе?
Конечно, русская литература, которой служу и служила долго и искренне.
Прочла книгу Полины Барсковой, горюя, что автор не мой наставник и каждодневный собеседник, ее филологическая проза — это признание в любви к литературе, это яркое ПРЕВРАЩЕНИЕ в прекрасное жизни со всеми ее перипетиями.
Из живого преподавателя за полгода я превратилась в бегущую строку ВКонтакте, продолжая защищать свой стиль преподавания (“Стиль — это человек” Жорж Луи Леклерк Бюффон).
Полина пишет, что попыткам объяснить, например, понятие ГРОТЕСК посвящены тысячи томов, каждый выбирает то объяснение, которое ему ближе, и Барскова находит следы следов... в Гроте Летнего сада. “Гротесковое и женское перевиваются, как фантастическое насекомое на полях огромной книги” (Барскова).
И, конечно, семинар превратился бы в диалог о Сибиллах, их картинах и книгах, о первом в России МУЗЕЕ, украшенном их гротесковыми рисунками.
Музей — для меня святое, он в России появился раньше университета, просвещение началось с него.
И ироничное отношение к музейной практике одних и легкомысленное — других меня ранит.
Свою жизнь связываю теперь с несуществующим: нет Грота в Летнем саду, нет и той аудитории, в которой можно украшать слушателей литературой, превращая их в филологов.
Автор: Ольга Ладохина
Источник:
- Татьяна Веретенова
"Тяжесть чужести чужбины" (о книге Полины Барсковой "Сибиллы, или Книга о чудесных превращениях", из-во Ивана Лимбаха, 2025)
Сразу скажу, что именно эта книга заставила меня в недавний приезд в Петербург почти с вокзала (лишь оставив чемоданчик в отеле) отправиться наконец-то, впервые в жизни, в Кунсткамеру - под проливным, фу, дождем и ветром, издевательски выгибающим удивленный японский зонтик; пришлось еще почти полчаса потоптаться на крыльце у входа в музей среди таких же бестолковых ранних пташек.Что такое, по сути, Кунсткамера? Этнографический музей, который начался во времена Петра с того, что он купил в Европе несколько коллекций природных редкостей, в частности, коллекции насекомых и рисунков известной немецкой художницы и энтомолога Марии Сибиллы Мериан. Петр, путешествуя по Европе, посетил ее дом в январе 1717 года (с этого эпизода и начинается книга Барсковой) буквально в день ее кончины, приобрел коллекцию, а заодно пригласил в новую российскую столицу дочь Сибиллы - Доротею Гзель (урожденную Мериан) и ее супруга, художника-портретиста. И таким образом Доротея (сама хорошая художница) оказалась первой хранительницей коллекций будущей Кунсткамеры.Но не ждите гладкого сюжета, перед нами не последовательное повествование, а виртуозная эссеистика, где автор берет фигуру Доротеи (и ее судьбу) как прием, как повод, как стержень, вокруг которого начинают клубиться как темы очевидные: эмиграция (зеркальная, кстати: для героини из Амстердама в рождающийся Петербург, а для автора-повествователя - из Петербурга нынешнего в США), сам город, отношения матери и дочери, метаморфоз... И темы неочевидные: так после долгих описаний бабочек и куколок ("Читатель ждет уж рифмы розы", - иронизирует Барскова) появляется нет, не Набоков (чье появление тематически было бы ожидаемо и оправдано), а неожиданно - Тынянов с его любовью к Ленинграду (впрочем, второй эпиграф у книги именно из Тынянова). Перекликаясь с Пушкиным и Бродским, Барскова утверждает в тексте свои свободные правила ("капризное повествование мое"); помимо вольного обращения с темами и персонажами, важен, например, подтекст (он обширен) - многое не проговаривается, а подразумевается, должно быть очевидно для читателя.Итак, Доротея как способ посмотреть на оставленный город: "Доротея Гзель - мой лазутчик, мой аватар, я помещаю себя теперь в Петербург ею. Хотя это совсем не мой Петербург, но ведь и не ее же. Трудно искать в чужом/своем городе свои/чужие следы". Но именно этим Барскова и занимается - поиском следов. Собственно, про Доротею Гзель неизвестно почти ничего, но это и тревожит автора, эта безвестность рядом с ее знаменитой матерью и масштабной фигурой Петра ("Чудовищная монструозная видимость царя и безвинность, безвидность Доротеи".). И Барскова из воздуха, из воображения ловит тень Доротеи и помещает ее на невские берега.Книга Барсковой в большой степени песнь тоски по Петербургу, не столько нынешнему, сколько "городу-младенцу", каким его видит Доротея в 1718 году ("она стояла и смотрела на город... Ее привезли в Петербург, чтобы она стала смотрительницей. Ей предстояло стать первой художницей этого города, работать и украшать его первый музей..."). Упоминая о своих многочисленных возвращениях в оставленный город, Барскова признается: "Минуты, когда я выйду на Стрелку, я жду годами с яростью и стыдом и гневом, которые ощущаются вместе скорее как болезнь, нежели любовь". Причины своей эмиграции автор опускает в подтекст, лишь констатирует, что "от Петербурга меня оторвало". Значительная часть книги - ее воспоминаниям о первой поездке в США, когда "любимица Шварц и Кривулина" (слова ее мамы) жила в Беркли конца 90-х, работала официанткой и сиделкой, активно смотрела видеокассеты из киноархива, например, фильмы Хичкока (ох, вспомнила я такие видеокассеты, того же Хичкока, что смотрела в те же годы на другом краю США, в центральном Массачусетсе). И вдруг на несколько страниц прозаический текст сменяется поэтическим - стихи про пассажиров автобуса 51А, едущего из Окланда в Беркли:Я ехала в автобусе, в которомВсе были сумасшедшими. И этоНе броская гипербола, позоромМогущая быть в творчестве поэта,Столь пристального к мистике реалиц,Как я. Так вот, они и вправду былиБольными, осторожно забиралисьНа жердочки сидений, и взиралиКуда-то в пустоту, и говорилиОдновременно, каждый о своем,Кому-то, кто не сущ, не осязаем,И пахли все нестиранным бельем.И в следующем стихотворении - "Итоги года, или Безумцы 9-й улицы" прямо: "Эмиграция это болезнь". Мотив этой болезни, этой "тяжести чужести чужбины" - центральный, и как раз Доротея Гзель с ее эмиграцией в юный Петербург становится для Барсковой лекарством от этого заболевания.Доротея оказывается в России почти сразу после смерти матери: "новый город язык свет были предложены Доротее как средство от пустоты, и она уцепилась за них с жадностью и ужасом и любопытством и даже с благодарностью". (Эта цитата, кстати, весьма показательна в плане того, как вольно Барскова обращается с пунктуацией, порой смело отказываясь от запятых при перечислениях. Другой особенностью ее грамматики становится нередкая сейчас тенденция (Чанцев, например, так часто делает) к активному использованию значка слеш и скобок внутри слов, что множит смыслы: "от/важная женщина".) Любопытно, уезжая из Амстердама, Доротея оказывается в городе, который строится по его подобию: "когда Доротея вживалась в него, город желал быть репликой Амстердама, с мельницами, мазанками, с водами, переполненными, кишевшими суденышками всех мастей".Одна из главных тем в "Сибиллах..." - метаморфоз, "чудесные превращения". Чтобы стать их свидетелем, важно не просто смотреть, а бдительно наблюдать. Барскова не только демонстрирует свою наблюдательность, описывая, например, пассажиров автобуса, но и пишет и о наблюдательности своей матери в преклонные годы (однажды названо ее имя - Нонна), и конечно, о наблюдательности Доротеи и ее великой матери, описавшей метаморфоз у насекомых. "Гусеницы буковой серпокрылки были почти созревшими для окукливания, а гусеница боярышникового шелкопряда очень беспокоилась, плохо питалась и скоро окуклилась. Через двадцать дней вылупилась бабочка". Для Марии Сибиллы судьба, смысл жизни - наблюдение за редкими в Европе "драгоценными шелковичными червями", потом за гусеницами и бабочками, а главное, умение зарисовать, зафиксировать стадии их трансформаций. "Перед началом превращения гусеницы гусеницы начинают очень быстро тревожно ползать, пока не найдут, к чему прикрепиться". Метаморфоз становится обширной метафорой в этой книге, подразумевая и эмиграцию, и смерть. "Бог дает нам новые силы, дух снова свеж и бодр, когда работа закончена, он берется за другую".Тема превращений, перерождений сплетается у Барсковой с темой преемственности по женской линии, причем как в отношениях ее героинь, так и в отношениях ее с матерью (важна и обращенность, посвященность всего этого текста Фросе, судя по всему, дочери). Общение со стареющей матерью описано в главке "Сан-Франциско, 2004" (всего в книге 19 главок, часто с указанием на год событий) - скамья в старой оранжерее, повествовательница "беременна следующей девочкой в нашей семье": "Во мне происходило установление связей с той, которая скоро уйдет, и той, которая еще не родилась, происходило неосознанное впускание уходящей в себя". Наблюдательность ведь еще и рефлексия. Да, наверное, можно сказать, что многими местами "Сибиллы..." - автофикшн о себе и городе, написанный для дочери, для передачи семейной эстафеты.Ведь именно в наследовании семейного мастерства по женской линии в семье Мериан Барскова и обнаруживает не что-нибудь, а смысл жизни этих женщин: "Доротея была художницей, как и ее сестра Сибилла, как и ее мать Мария Сибилла, как и ее отец, изгнанный матерью за ненужностью, как и ее дед, как и ее отчим: из поколения в поколение передавались знания, как размельчать, растирать краску, как выбирать и сушить бумагу, как вытравлять нежную , нервную и точную линию, как смотреть на цветок, зарождающийся или скукоженный, мертвый - ты не мог не быть изображателем растений, насекомых, так как в этих изображениях заключалась твоя связь с семьей. Здесь находились вдохновение, мастерство, вызов, несвобода; твое ремесло было оковами, и смыслом, и связью". (Здесь знаки препинания на месте.)Тынянов входит в текст Барсковой с любовью к городу и своим романом "Восковая персона", в котором описывает смерть Петра. Но как ни странно внимание автора смещается на многолетнюю болезнь Тынянова - рассеянный склероз (описание симптомов которой показывает, что сталкиваться ей с этим заболеванием, похоже, не доводилось, здесь хочется добавить - к счастью). Ведь нет ни болей, не потери памяти - просто человека поглощает неподвижность. Но описан и его творческий метод, его подход к материалу. "Восковая персона" для Барсковой - "о мнимости тела, о мнимости жизни, мнимости знания, успеха и провала"; она пишет, что помещая восковую персону государя в Кунсткамеру, Тынянов превращает его в "экспонат, в любопытную вещь". Барскова, вслед за Тыняновым, сама всматривается в фигуру Петра: "Сочетание монструозной и прелестной натур в челоаеке Петре I озадачивает меня: я закрываю глаза и представляю, как он сидит в полной зимнего света комнате Мериан - в руках у него жук, потом в руках у него раковина, потом в руках у него ее дневник наблюдений с зелеными тесемками"....Да, еще: вся история короткая, менее 200 страниц, а в конце книги - еще на пять страниц - список литературы не то чтобы напрямую использованной, но повлиявшей на ее создание: здесь и научные изыскания о времени Петра, и воспоминания о Тынянове, и стихи современных петербуржцев И.Булатовского и А.Скидана, и много что еще, и на английском тоже.После посещения Кунсткамеры я вышла на стрелку Васильевского острова.
Издательство Ивана Лимбаха, 2025
Редактор И. Г. Кравцова
Корректор А. Ю. Беспятых
Компьютерная верстка Н. Ю. Травкин
Дизайн обложки Ник Теплов
Обложка, 192 с.
УДК 821.161.1-3 «20»
ББК 84.3 (2=411.2) 6-4
Б 26
*Полина Барскова признана Минюстом иностранным агентом
Формат 84x1081/32
Тираж 1500 экз.
18+








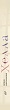

.jpg)

