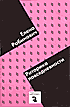Отрывок
Предсмертные слова
Василия Львовича
В России, как мы знаем, долгое время главным
человеком был писатель, и биография писателя или
эпизод биографии писателя (дуэль Пушкина, уход
Толстого) переживались не как событие чужой,
пусть и великой, жизни, а как значимый компонент
культурной традиции — и действительно таковыми
были. Писатели обычно эту биографическую
ответственность сознавали, и классиком тут,
разумеется, оказался -- как и во всем -- Пушкин. А у
Пушкина был, как известно, дядя, Василий Львович
Пушкин, умерший у себя дома естественной смертью
20 августа 1830 года.
Вот как пишет об этом Вяземский через несколько
дней: «Остафьево, 25-го. Бедный Василий Львович
скончался 20 числа в начале третьего часа
пополудни. Я приехал к нему часов в одиннадцать.
Смерть уже была на вытянутом лице и в тяжелом
дыхании его. Однако же он меня узнал, протянул мне
уже холодную руку свою и на вопрос Анны
Николаевны: рад ли он меня видеть (с приезда моего
из Петербурга я не видал его), -- отвечал он слабо,
но довольно внятно: «очень рад». После того,
кажется, раза два хотел он что-то сказать, но
звуков уже не было. На лице его ничего не
выражалось, кроме изнеможения. Испустил он дух
спокойно и безболезненно, во время чтения
молитвы при соборовании маслом. Обряда не
кончили, помазали только два раза.
Накануне был уже он совсем изнемогающий, но,
увидя Александра, племянника, сказал ему: „как
скучен Катенин!" Перед этим читал он его в
Литературной газете. Пушкин говорит, что он при
этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде
умереть исторически. Пушкин был, однако же, очень
тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя
как нельзя приличнее. На погребении его была
депутация всей литературы, всех школ, всех партий:
Шаликов, Погодин, Языков, Дмитриев и Лже-Дмитриев,
Снегирев <...>».
Выходит, предсмертные слова В. Л. Пушкина «очень
рад» были обращены к Вяземскому, с которым он был
связан самой тесной дружбой, а насчет статей
Катенина он сказал племяннику накануне — пусть
незадолго до смерти, но все же не перед смертью,
при том что в эти часы около него неотступно кто-то
был, и всем он сказал хоть что-нибудь. Вяземский,
впрочем, не толкует «очень рад» как итоговую
предсмертную сентенцию, но лишь как выражение
дружбы, зато рассказ Пушкина, судя по «был, однако
же, очень тронут» воспринял как шутку, уместность
которой под вопросом. Пушкин, однако же, был в
своем намерении считать последними словами дяди
его отзыв о Катенине тверд и вскоре, в сентябре
того же года, писал Плетневу":
«Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние
слова? прижаю к нему, нахожу его в забытьи,
очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом
помолчав: как скучны статьи Катенина! и более ни
слова. Каково? вот что значит умереть честным
воином, на щите le cri de guerre a la bouche!» -- но более к этой
теме он не возвращался. А так как ни дневниковая
запись Вяземского, ни письмо Пушкина к Плетневу в
ближайшие после смерти Василия Львовича
десятилетия известны не были, а сам он жил в
памяти лишь своих постепенно уходивших из жизни
друзей, обстоятельтва его смерти тоже постепенно
предавались забвению -— вместе ним самим, потому
что в культового героя, каждая семейная и
мужеская связь которого священна, племянник его
Александр превратился заметно позднее.
Отрывок
Поэтика жаргона
В предшествующем очерке показано, что жаргон как
способ самоидентификации группы представляет
собой совокупность слов и словосочетаний,
расширяющих речевой репертуар группы, не
затрагивая структурных аспектов языка,
носителем которого является микросоциум. Жаргон
реализуется почти исключительно на лексическом
уровне, предпочтительно описывая наиболее
значимые для микросоциума ситуации; объем и
характер специфического лексикона варьируются
очень значительно. От этого общего определения
легко перейти к некоторым более частным, хотя и
релятивным. Например, офенский язык отличался
богатством и претензией на герметичность, но
богатство лексикона -- понятие относительное, а
герметичность никогда не бывает полной или хотя
бы достаточной. Куда более важным представляется
тот факт, что это обобщенное определение
подходит не только любому жаргону, но очевидным
образом служит обобщенным определением любой
иерархически высокой лексики, одним из видов
которой оказывается, таким образом, и жаргон.
<...>
Собственно говоря, здравый совет Аристотеля смешивать в стихах «высокие» слова с пусть «низкими», но все же обиходными (Poet. XXII, 1458 а 31), именно и мотивируется необходимостью сделать стихи по возможности внятными, и в целиком посвященой слогу третьей книге «Риторики», где говорится уже не об усложненной поэтической речи, а о непременных качествах речи ораторской, то есть непременно общепонятной, внятность ставится во главу угла, а использование поэтической лексики допускается в исчезающе малых дозах, да и эти дозы все время ограничиваются оговорками, что и метафора годна не всякая, и эпитет не любой, а в результате из нестихотворной речи «язык богов», по-существу, изгоняется. Из речи стихотворной Аристотель его не изгоняет и даже осуждает некоторые ясные, но «низкословные» стихи (Poet. 1458 а 18), однако объясняет, что же получится, если вовсе не употреблять в стихах обиходные слова, -- необиходные слова он разделяет при этом на «переносные» и «редкие» (очевидно, что под «переносными» разумеются не только метафоры, но и все описательные имена, а под «редкими» не только глоссы, но и все слова, названные выше ограниченно конвенциональными -- это вытекает из самого стиля «Поэтики» с его не всегда однозначной терминологией, зато почти исчерпывающей обстоятельностью).Итак, в первом случае получится загадка вроде приведенной загадки Клеобулины Линдской о враче, ставящем банки: мужа зрю, огнем медь к мужу другому лепяща» (ibid. а 26); а во втором случае получается варваризм -- речь, настолько чуждая и непривычная, будто уже и не греческая (ibid. а 30).
Отрывок
Языковая конвергенция в условиях развитого социализма
Идея прямой соотнесенности языковых и
социальных процессов и, соответственно,
утопическое ожидание новой общественной
формации, не только вселенской и бесклассовой, но
и в языковом отношении единой, -- всё это в
академическом сознании естественно
ассоциируется если не с самим Н. Я. Марром и его
тезисом об обусловленности языкового развития
социально-экономическими факторами (Марр, 17 и
след.), то, по крайней мере, с вульгарными формами
марризма и с пропагандой мировой революции
(L'Hermitte 1984, 127-129). Встречающиеся у маститых
исследователей довоенного советского времени
высказы вания на эту тему чаще всего относятся к
разряду так называемых «заклинаний» и в
результате обычно оставляются без внимания, хотя далеко не всегда того заслуживают. Так, в
«Национальном языке и социальных диалектах» В. М. Жирмунского имеется абзац, казалось бы,
бесспорно относящийся именно к разряду
«заклинаний» (и даже с традиционной отсылкой к
чему-то неназванному у Ленина): «В эпоху
всеобщего кризиса капитализма и пролетарских
революций наиболее активным очагом
международных языковых влияний становится
Советский Союз». Далее Жирмунский приводит
примеры того, что сам называет «переводными
советизмами», как selfcriticism или socialist competition и
заключает: «Главным проводником этих новых
интернациональных понятий и слов является
пролетарская, коммунистическая печать всего
мира»
{Жирмунский 1936, 183-184). Действительно, инициатива
подобных изданий всегда исходила из СССР, да
нередко они и печатались прямо в Москве; так,
Корней Чуковский записывает в своем дневнике 22
ноября 1931 года: «Затевает Кольцов журнал
английский „Asia", в пику существующему,
буржуазному» (Чуковский К. Дневник: 1930-1969. М., 1995. С. 34). Для Чуковскогоэто новость вполне рядовая,
хотя о специфической роли Михаила Кольцова в
Коминтерне ему не могло не быть известно. Таковы
были быт и стиль эпохи.
После отказа от Коминтерна и ниспровержения
марризма контексты, в которых высказываться о
подобных предметах было необходимо, заметно
сократились числом, и в послесталинскую
советскую эпоху лингвистика отличалась от
прочих наук минимальной (сравнительно, скажем, с
историей) идеологизированностью -- но благодаря
упадку ее пограничных с социальными науками, то
есть идеологически не нейтральных, отделов. Тем
не менее публикации, так или иначе относящиеся к
почти не существующей социолингвистике, в печати
появлялись, и среди них, конечно, было немало
откровенно конъюнктурных. Хороший примep -- статья
В. Ф. Алтайской о «языковом развитии» со ссылками
на Ленина, Хрущева и Горького, зато практически
без привлечения собственно лингвистических
данных. Грубо официозный тон статьи не
предполагает, казалось бы, никакой ориентации на
запретный в ту пору «марризм», и все же в
заключение объявляется, что «все отмеченные
случаи изменения названий свидетельствуют)
прогрессивном характере изменения языка» (Алтайская,
20), -- а это нельзя не признать примитивным
выражением уже знакомой концепции, утратившей,
следовательно, прямую ассоциацию с идеями Марра,
хотя явно к ним восходящую.
Издательство Ивана Лимбаха, 2000
Редактор И.Г. Кравцова
Корректор Е.В. Крутова
Компьютерная верстка: Н. Ю. Травкин
Оформл., макет: Д.М. Плаксин, С.Д. Плаксин
Обложка, 240 стр.
УДК 82.07 ББК Ш.я44 Ра12
Формат 60x901/16 (214х140 мм)
Тираж 1000 экз.