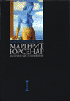Отрывок
Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе
Господи! Когда же придет мой смертный час... Вы,
конечно, помните эти слова, Моника. Ими начинается старинная немецкая молитва. Я устал от этого заурядного
существа, лишенного будущего, лишенного веры в будущее, существа, которое я вынужден называть «я», потому
что не могу отделить его от себя. Оно докучает мне своими печалями, своими горестями, я вижу, как оно
страдает, но не способен даже его утешить. Я, без сомнения, лучше него, я могу говорить о нем как о
ком-то посторонннем, я не понимаю, какие причины держат меня у него в плену. И может, самое ужасное
в том, что для других я всегда останусь только этим существом в вечных борениях с жизнью. И бесполезно
желать, чтобы оно умерло, – ведь с его смертью умру и я. В Вене за время этих долгих лет душевной борьбы
я не раз желал умереть.
Страдают не от своих пороков, страдают только оттого, что не могут с ними смириться. Я познал все софизмы
страсти, познал также и все софизмы совести. Люди воображают, будто осуждают некоторые поступки, поскольку
они противоречат морали; на деле люди повинуются (имеют счастье повиноваться) собственному инстинктивному
отвращению. Меня невольно поражало, сколь несущественны наши самые страшные грехи, сколь мало места
занимали бы они в нашей жизни, не продлевай им жизнь угрызения. Наше тело забывчиво, как и наша душа;
может, этим и объясняется, что некоторые из нас снова становятся невинными. Я старался забыть; я почти
забывал. Потом эта амнезия начинала меня пугать. Я принимался вспоминать, но не мог вспомнить все, и
это терзало меня еще больше. Я углублялся в прошлое, стараясь его оживить. Я приходил в отчаяние оттого,
что воспоминания тускнеют. Только они могли избавить меня от настоящего и будущего, от которых я отказывался.
Наложив на себя множество запретов, я не находил в себе сил наложить запрет и на свое прошлое.
Я победил. В результате жалких рецидивов и еще более жалких побед я прожил целый год так, как хотел
бы прожить всю жизнь. Не улыбайтесь, мой друг. Я вовсе не преувеличиваю своих заслуг: считать заслугой
воздержание от греха значит грешить на свой лад. Иногда удается управлять своими поступками, труднее
управлять своими мыслями, но своими грезами управлять нельзя. Я грезил. Я познал опасность стоячих вод.
Похоже, что поступки отпускают нам грех. По сравнению с мыслями, какие в нас порождает грех, даже само
греховное действие кажется более чистым. Или, если угодно, менее грязным. Отнесем это на счет заурядности,
свойственной реальной жизни. В тот год, когда я, поверьте мне, не совершил ничего предосудительного,
меня, как никогда, преследовали навязчивые мечты, и притом самого низкого пошиба. Можно было подумать,
что рана, слишком быстро зарубцевавшись на теле, открылась в душе и в конце концов отравила ее. Мне
не составило бы труда драматизировать свой рассказ, но мы с Вами не любим драм, – есть вещи, которые
можно выразить полнее, умолчав о них. Так вот, я любил жизнь. Во имя жизни, вернее, во имя моего будущего
я заставил себя одержать над собой победу. Но тот, кто страдает, начинает ненавидеть жизнь. Меня стали
преследовать мысли о самоубийстве и другие мысли, еще более ужасные. В самых безобидных будничных предметах
я усматривал орудия возможного разрушения. Я боялся тканей, потому что их можно связать узлом, ножниц
– из-за их острых концов и, в особенности, режущих предметов. Меня искушали эти грубые обличья избавления:
я запирал дверь между собой и своим безумием.
Я стал жестким. До сих пор я избегал осуждать других; теперь, если бы смог, я стал бы так же беспощаден
к ним, как к самому себе. Я не прощал ближним самых мелких прегрешений, опасаясь, что снисходительность
к другим толкнет мою совесть извинять мои собственные грехи. Я боялся расслабленности, какую вызывают
приятные ощущения, и дошел до того, что возненавидел самую природу за ласку весны. Я старался по возможности
избегать волнующей музыки: мои собственные руки, лежащие на клавишах, приводили меня в смятение, напоминая
о ласках. Я боялся неожиданных светских встреч, мне чудилась опасность в человеческих лицах. Я замкнулся
в одиночестве. Потом одиночество стало меня пугать. Ведь быть совсем одиноким невозможно: к несчастью,
ты никогда не расстаешься с самим собой.
Музыка, радость сильных натур, служит утешением для слабых. Музыка стала для меня ремеслом, дававшим
мне средства к существованию. Учить музыке детей – мучительное испытание, поскольку техника отбивает
у них интерес к душе. А я думаю, следовало бы сначала давать им почувствовать душу. Но так делать не
принято, а мои ученики и их родители вовсе не хотели отступать от принятых правил. И все же я предпочитал
детей взрослым ученикам, которые появились у меня позднее и считали, что должны что-то выражать своей
игрой. К тому же перед детьми я не так робел. Я мог бы, если бы захотел, иметь больше уроков, но тех,
что у меня были, мне хватало, чтобы прокормиться. А я и так уже работал слишком много. Мне не свойствен
культ работы, когда ее результаты важны лишь для тебя самого. Конечно, изнурять себя – это тоже способ
самоукрощения, но изнурение тела приводит в конце концов к изнурению души. А кто знает, Моника, что
лучше: душа мятущаяся или душа спящая?
Отрывок
Восточные новеллы
Всю следующую ночь монах Ферапонт, будто анахорет в пустыне,
продолжал творить молитву у порога часовни. Он радовался, что еще до восхода новой луны стоны прекратятся
и умершие от голода нимфы останутся всего лишь нечистым воспоминанием. Он молился, чтобы приблизить
миг, когда смерть освободит его пленниц, потому что невольно начинал жалеть их и сердился на себя за
эту постыдную слабость. Никто уже не поднимался к нему, и деревня казалась совсем далекой, как на краю
света; на другом косогоре долины он различал лишь бурую землю, сосны и тропинку, присыпанную золотыми
иголками. Монах Ферапонт не слышал ничего, кроме постепенно затихающих хрипов, и все более нарастал
скрипучий звук его собственных молитв.
Вечером того дня он увидел, как по тропинке к нему приближается женщина. Она шла опустив голову, слегка
согнувшись; на ней были черные шарф и накидка, но темную ткань изнутри пронизывало таинственное сияние,
будто покров ночи окутывал утреннюю зарю. Странница была очень молода, но степенностью, неторопливостью
и достоинством не уступала иной древней старухе, а ее нежность напоминала прелесть зрелой виноградной
грозди или благоухающего цветка. Проходя мимо часовни, она внимательно посмотрела на монаха, и он отвлекся
от молитв.
– Эта тропа никуда не ведет, – сказал он ей. – Откуда ты, женщина?
– С Востока, так же как утро, – ответила молодая женщина. –
А что здесь делаешь ты, старый монах?
– Я замуровал в этом гроте нимф, которые еще водились в здешних местах, – сказал Ферапонт, стоя у входа
в пещеру, – я построил часовню, и теперь они не могут вырваться и убежать, потому что нимфы ведь голые
и на свой лад боятся Бога. Я жду, пока они умрут от голода и холода в своей пещере, а когда это произойдет,
на полях воцарится мир Божий.
– Кто сказал тебе, что мир Божий не простирается над нимфами, так же как над ланями или стадами коз?
– спросила молодая женщина. – Разве ты не знаешь, что во время творения Бог забыл дать крылья некоторым
ангелам и они, упав на землю, поселились в лесах, где образовали племя нимф и панов, а другие оказались
на горе и
стали олимпийскими богами? Не превозноси, подобно язычникам, творения в ущерб Творцу. Но и не осуждай
сотворенного Им! И возблагодари Бога в сердце своем за то, что Он создал Диану и Аполлона.
– Мой дух не может воспарить так высоко, – смиренно ответил монах. – Нимфы смущают мою паству и ставят
под угрозу спасение душ людей, а я отвечаю за них перед Господом и, если понадобится, буду преследовать
нимф даже в аду.
– Усердие зачтется тебе, старый монах, – с улыбкой сказала молодая женщина. – Но разве не видишь ты
средства примирить жизнь нимф со спасением твоей паствы?
Голос ее был мягок, как мелодия флейты. Взволнованный монах склонил голову. Молодая женщина коснулась
рукой его плеча и серьезно сказала:
– Монах, позволь мне войти в грот. Я люблю гроты и жалею тех, кто ищет в них убежища. Ведь именно в
гроте родила я ребенка и в гроте же без страха доверила его смерти, дабы в Воскресении пережил он второе
рождение.
Анахорет отошел в сторону и дал ей пройти. Она решительно направилась ко входу в пещеру, скрытому за
алтарем. Огромный крест преграждал ей дорогу; она легко, как привычную вещь, отодвинула его и проскользнула
в грот.
В темноте резче зазвучали стоны, послышалось щебетание и звуки, напоминающие хлопанье крыльев. Молодая
женщина говорила с нимфами на каком-то непонятном языке, быть может языке птиц и ангелов. Через мгновение
она появилась рядом с монахом, продолжавшим молиться.
– Смотри, монах, – сказала она, – и слушай. – Из-под ее одеяния вырывался многоголосый пронзительный
писк. Женщина отвернула полы накидки, и Ферапонт увидел, что под ней в складках платья приютились сотни
молоденьких ласточек. Странница раскинула руки, будто творя молитву, и выпустила птичек.
– Летите, дети мои, – сказала она, и голос ее был чист, как звук арфы.
Освобожденные ласточки взлетели в вечернее небо, рисуя клювами и крыльями непонятные знаки. Старик и
молодая женщина какое-то время провожали их взглядом, затем женщина сказала отшельнику:
– Они будут возвращаться каждый год, а ты устроишь им приют в моей часовне. До свидания, Ферапонт.
И Мария пошла по тропинке, которая никуда не вела, ведь этой путнице не так уж и важно, что дороги кончаются,
поскольку ей известны пути небесные. Монах Ферапонт спустился в деревню, а на следующий день, когда
он снова поднялся на гору, чтобы отслужить молебен, грот нимф был усыпан гнездами ласточек. Они возвращались
каждый год, влетали и вылетали из часовни, заботясь о пропитании птенцов и укреплении своих глиняных
домиков; монах Ферапонт нередко прерывал свои молитвы и с нежностью наблюдал, как они любят и играют,
ибо то, в чем отказано нимфам, позволительно ласточкам.
Издательство Ивана Лимбаха, 2003
Составитель: Ю.Я. Яхнина
Редактор И.Г. Кравцова
Предисл.: О.Б. Вайнштейн
Пер. с фр.: Н.О. хотинская, Е.Л. Кожевникова,
Ю.Я. Яхнина, Н.Ф. Кулиш, Н.С. Мавлевич
Корректор Т.М. Андрианова
Компьютерная верстка: Н. Ю. Травкин
Худож. оформл.: А. Бондаренко
Переплет, 584 стр.
УДК 840-3 ББК 84(4) Ю81
Формат 60x901/16 (220х154 мм)
Тираж 3000 экз.
Книгу можно приобрести