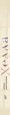- Антон Светличный
Из письма одного из героев книги композитора Антона Светличного автору - Дмитрию Бавильскому.
"Мне "Озон" сегодня прислал, наконец, книгу интервью, и я вас хочу с ней всячески поздравить. Вышло, по-моему, прекрасно. Вы сделали огромное дело, достойное места в истории российской музыки. Сегодня у нас праздник, и я нас всех поздравляю с тем, что этот проект состоялся. Будем надеяться, что и "востребование", которое там в заголовке, последует в свой черед".
- Беседа Дмитрия Волчека с Дмитрием Бавильским в передаче Книжный шкаф на Радио Свобода.
Издательство Ивана Лимбаха выпустило сборник бесед писателя Дмитрия Бавильского с современными российскими композиторами. Книга называется «До востребования». Автор надеется, что произведения его собеседников когда-нибудь будут знать так, как сейчас знают Чайковского, Бетховена, Баха. Я попросил Дмитрия Бавильского рассказать о книге.
Слушать передачу на Радио Свобода
Дмитрий Волчек: Вы говорите с современными композиторами о людях прошлого. С людьми, известными узкому кругу ценителей о людях, чьи имена знает любая пенсионерка, слушающая «Маяк». И, конечно, это сопоставление удивляет. Современная музыка как бы ушла в лабораторию, куда почти нет входа, а старая музыка вроде бы жива и понятна миллионам. Как это получилось и почему?
Дмитрий Бавильский: Дело в том, что свою книжку я придумал, когда читал дневники Прокофьева, их недавно издали на русском языке. И обратил внимание, что самые интересные куски это когда Сергей Сергеевич обсуждает музыку своих коллег. Вот он пошел на концерт Рахманинова и услышал там его новое сочинение. Он к Рахманинову очень трепетно относился и ревновал. Или, допустим, он услышал новое сочинение Равели и тут же в пух и прах его разнес. После этого я читал «Диалоги» Стравинского и обратил внимание, что мне тоже интереснее всего знать как Стравинский относился к своим предшественникам. Из этого я понял, что самое интересное, то как люди относятся к своим коллегам. И когда композиторы, современные композиторы, говорят о своих предшественниках, они говорят не только о них, но и о себе тоже. Потом я решал очень важную задачу маркетологического плана, потому что все знают композиторов классиков, а никто не знает молодых современных композиторов, которых в России практически не исполняют.
Д.В. Об этом я и спрашиваю – почему так произошло? Почему современная музыка ушла в какую-то маленькую лабораторию, куда почти нет доступа? Почему, если пользоваться выражением Владимира Мартынова «наступил конец эпохи композиторов»?
Д.Б. Потому что композиторы решают свои и не только свои очень сложные интеллектуальные и творческие задачи. Так вышло, что именно сейчас музыка стала тем передовым краем культуры и искусства, на котором разрабатываются новые языки, передовые технологии и то, что еще до конца не оформлено. Музыка это чувствует и передает лучше, чем театр или кино, и, к сожалению, лучше, чем литература.
Д.В. Вы не музыковед и называете себя в предисловии даже не патентованным меломаном и пишете, что Вас заинтересовала антропология композиторов. Мне кажется, в этом интересе есть даже что-то зловещее. Вы как энтомолог к ним относитесь?
Д.Б. Нет. Я отношусь как современный человек, который хочет понять, что с нами происходит. Мне кажется, что разные виды искусства решают проблему описания современного мира по разному, но наиболее точно диагностичски и стенографически то, что с нами сегодня происходит, делают именно композиторы.
(музыкальный фрагмент)
Д.В. А вот эта их невостребованность… (книга называется «До востребования») будет когда-то преодолена? Будут они востребованными?
Д.Б. Вы знаете, они очень известны, по крайней мере, многие из них на Западе. Их издают и играют за рубежом. Композиторы никогда не пишут музыку для себя, они пишут только на заказ, потому что исполнять музыку это всегда дорого. Мои герои постоянно получают заказы от каких-то западных институций, поэтому многие из них уезжают за рубеж, там им проще выжить. Их исполняют по всему свету и на западе они востребованы. Это проблема нашей неразвитой инфраструктуры музыкальной, которая очень робко подходит к исполнению современной музыки. У нас для этого очень мало слушателей. Я же хожу на эти концерты и вижу, что в Москве - а это самый крупный слушательский центр страны – есть тысяча постоянных преданных слушателей современной музыки. Они постоянно кочуют с концерта на концерт. Когда ты регулярно ходишь на такие мероприятия, то уже начинаешь людей узнавать, это как секта. Это очень сложная музыка для нее нужно ухо воспитывать. К сожалению, этим мало кто занимается.
Д.В. Тоже самое происходит и с кино, да и с литературой, тоже мне кажется тысяча синефилов и тысяча, судя по тиражам даже, читателей современной сложной литературы.
Д.Б. Если кино поддерживают фестивали и меценаты, которым льстит внимание кинематографической общественности, а литератор может писать в стол (сейчас в компьютер), музыкант не может писать просто так, ему важно, чтобы его музыку исполняли. Если Вы внимательно прочитаете эти диалоги, Вы увидите, что люди в основном говорят о камерной музыке. Современные композиторы пишут сейчас в основном для малых составов, потому что репетиции оркестра, исполнение симфонических опусов очень дорого стоит.
Д.В. Я хочу процитировать Антона Сафронова, который как раз об этом и говорит в интервью для Вашей книги. Он пишет о том, что «выбор между музыкальным «макдоналдсом» для люмпензизированного большинства и музыкальными пестицидами для «прогрессивно мыслящих» интеллектуалов (а в промежутке - засахаренный гламур для «мещан во дворянстве») - это обычная дурная альтернатива сегодняшнего общества». Согласитесь?
Д.Б. К сожалению, ухо очень замусорено, ведь мы живем в постоянном звуковом ландшафте. Он нас преследует, и он никуда не уходит. Кстати это очень интересно, как современные композиторы работают с этим звуковым ландшафтом, расширяя границы музыки и включая туда какие-то уличные шумы или звук работающего отбойного молотка.
(музыкальный фрагмент)
ДБ. Проблема же не в музыке не в ее восприятии, а в том, как к себе относятся люди. Когда едешь в метро, видишь, что читают Донцову, хочется подойти и спросить: «ну зачем вам это надо? Вы же себе мусорите мозг, Вы бездарно тратите время». Люди очень внимательно относятся к тому, что потребляют. Люди ходят в магазин и покупают правильные органические натуральные продукты. Почему-то у нас нет культуры потребления искусства. Поэтому любой человек совершенно спокойно может отдавать свои уши, а значит свой мозг, свою голову на растерзание каких-то совершенно беспардонным попсовикам, затейникам. Надо выбирать, что слушать. Когда ты начинаешь слушать классическую музыку или современную музыку, которую я в своей книге называю поисковой, тебе становится просто жалко тратить свое время на что-то более бездарное, простое и тупое. Ну просто не интересно.
Д.В. Вот знаете как Алехандро Ходоровски говорил о том, что кино должно увеличивать зрителя. Зритель должен выходить из кинотеатра больше, чем он туда вошел. Ну вот так часто бывает, когда ты смотришь блокбастер, какой-нибудь голливудский фильм прямо ощущение, что ты как-то съеживаешься, выходишь из кинотеатра меньший чем ты был, или таким же. Зря потратил полтора-два часа. Вот наверное такая же ситуация на концерте может быть да и где угодно.
Д.Б. Совершенно верно. Мы не отдаем себе отчета в том, что сейчас наступила новая эпоха. Эпоха, когда главнее тот, кто потребляет. Предложение настолько превышает спрос, что люди решают свои творческие и прочие задачи тем, что они могут выбрать одно и закрыть глаза на другое. Поскольку нет единого информационного поля, я закрываю глаза и мира нет, нет ничего обязательного. Если не введено законодательно требование смотреть программу «Время», можно не смотреть программу «Время» и тогда ее нет, и нет тех сайтов, которые я не смотрю. Поэтому люди должны уметь выбирать то, что им действительно нужно и то, что действительно хочется. Для этого люди должны знать и понимать себя. К сожалению это большая и трудная работа, на которую не многие способны.
Д.В. Дмитрий, ну представьте тогда нашим слушателям своих героев. Я пока только одно имя назвал Антона Сафронова.
Д.Б. Нужно, во-первых, уточнить, что книга делится на две части. В первой части современные молодые композиторы говорят о композиторах классиках: от Баха, Бетховена и Вагнера до Шостаковича, Стравинского и Чайковского. Я постоянно пытался отвадить их говорить о композиторах ХХ века, хотя все они хотели говорить именно о современной музыке, она им максимально интересна. А во второй половине книги эти же самые композиторы говорят о себе и о своей музыке. Поэтому мы можем сравнить подходы композиторов к себе и к тем композиторам, которые им предшествовали, у кого они учились, кому они наследуют. Потому что композиторская школа примерно также как литературная развивается традицией и самые авангардные и радикальные современные эксперименты не существуют без предшественников. Есть несколько подводных течений в этой книге. Я собирал композиторов таким образом, чтобы они между собой спорили. И в этой книге есть композиторы условно называемые минималистами, чью музыку слушать приятно, она мелодична и легко усваивается. Например, Антон Батагов писал заставки и музыкальные символы к телевизионным каналам, точно так же как Павел Карманов или Александр Маноцков. А им не противостоят, но с ними спорят своими творческими подходами композиторы более радикальные, более усложненные: Антон Васильев, Владимир Горлинский, Дмитрий Курляндский, которому Венецианская биеннале недавно заказала концерт для симфонического оркестра с автомобилем, Сергей Невский, оперу которого уже исполняли в Большом театре, Олег Пайбердин, Ольга Раева, Владимир Раннев, Борис Филановский, Александа Филоненко…
(музыкальный фрагмент)
Д.Б. К сожалению, до конца работы над книжкой не дожил один композитор: Геогрий Дорохов, который умер в феврале прошлого года, и мы с ним не смогли закончить последнюю беседу, она была посвящена композитору Галине Уствольской. Гоша Дорохов был надеждой нашего музыкального авангарда, человеком, который писал увертюру на открытие выставки «Русское бедное» для Пермского музея современного искусства. Эта музыка состояла из шума мусорных баков.
Д.В. Дмитрий, ну вот Вы говорите о методологических и эстетических противоречиях…Знаете всегда на симфоническом концерте, наверное как и многие зрители, наблюдая за музыкантами, представляю какие у них сложные отношения между собой. Видно иногда облако ненависти вокруг первой скрипки или вот сидит желчный интриган с контрабасом, или вот какая-то напряженность в оркестре… Вот в этой маленькой лаборатории, закрытой для посторонних тоже наверняка кипят страсти и тоже наверное какие-то там молнии летают…
Д.Б. Как в любом локальном культурном сообществе там кипит и пенится так, что мало не покажется. Ведь заказов много не бывает. И не хватает всегда на всех. Но что я хочу сказать: поскольку эта территория максимально лишена внимания масс-медиа и больших денег, то там наиболее здоровая, если сравнивать с кинематографистами или театральными деятелями или с деятелями изобразительного искусства. Все что измеряется деньгами. Там где денег поменьше, там атмосфера более здоровая.
Д.В. Вот эта территория лишена внимания масс-медиа или почти лишена, я знаю, что и книгу Вашу довольно сложно было издавать, она планировалась к выходу в другом издательстве еще несколько лет назад, то есть и на нее не было такого спроса.
Д.Б. Это само сложное, люди боятся книги, написанной на музыкальные темы, им кажется, что это сложно. Я и сам поскольку заканчивал музыкальную школу и у меня был предмет муз. литература, очень хорошо знаю эти пыльные музыковедческие тома, напичканные непроходимой терминологией и знаете этим строчками с нотами, которые если книгу откроешь, мгновенно отпугивают. Именно поэтому я хотел написать совсем другую книгу, к сожалению, не удалось полностью избежать музыкальной терминологии, потому что мы с композиторами говорили об очень сложных материях. Но кстати не столько музыкальных, сколько экзистенциальных, философских. Мне кажется, что в России музыка выполняет роль философии. У нас же не было нормальной полноценной философии и всегда считалось, что литература выполняет роль философии. Мне кажется, что музыка не в меньшей, а в большей степени выполняет роль такого вот философского размышления о том, что происходит.
Д.В. Дмитрий, а как работа над этой книгой повлияла на Ваши предпочтения слушательские, на Вашу домашнюю фонотеку? И что бы Вы нашим слушателям порекомендовали?
Д.Б. Вы знаете, я подходил к созданию этой книги как обычный человек, которому важно понять, какие диски слушать, а какие не слушать, какие покупать, а какие пропустить. Собственно эта книга выросла из одного моего недоумения, о котором я пишу в предисловии: когда я пришел в магазин компакт-дисков и понял, что совершенно не владею ситуацией, очень большой выбор, я не знаю этих имен и в них теряюсь. Для меня весь авангард закончился именами, которые все знают: Эдисон Денисов, Софья Губайдуллина и Шнитке, а после этого как бы непонятно что… И тогда я понял, что должен эту проблему изучить, чтобы «не плавать» и начал задавать композиторам вопросы, которые мог бы задать любой человек, который сталкивается с тем, чего не знает. Я не стеснялся задавать простые вопросы, в том числе и по потреблению музыки: какие пластинки выбирать, что такое аутентичное исполнительство, нужно ли брать полное собрание произведений композитора в дисках, правильно ли их составляют? У меня есть в этой книге интервью с Тимуром Исмагиловым, который рассказывает о сайте Святослава Рихтера, который он ведет. И после этой книги или во время работы над ней моя фонотека значительно увеличилась, потому что вся та музыка, о которой мы говорим, есть в интернете. И композиторы мне давали ссылки на свои произведения. Я их слушал и в книге мы их обсуждали. Еще один очень интересный момент, когда я просил их объяснить, что они хотели сказать тем или иным произведением. Есть разборы буквально потактово некоторых произведений, например у Владимира Горлинского или у Саши Филоненко. Я просил объяснить, что значит название этой пьесы, как она развивается, почему использованы эти инструменты, а не другие, и что собственно пошагово композитор хотел сказать этой музыкой.
Д.В. Я просил посоветовать нашим слушателям с чего начать.
Д.Б. Да. Пару лет назад Российский национальный оркестр проводил фестиваль вместе с известным сайтом youtube это был конкурс сочинений молодых композиторов, за которые голосовала интернет-аудитория. И в конце концов был большой концерт на котором все эти сочинения исполнялись, люди за них голосовали и вся процедура была очевидна и прозрачна. Вот я предлагаю на youtubе найти канал этого конкурса композиторского. Там сочинения молодых и талантливых композиторов исполняются очень хорошим оркестром. Русским национальным, это лучший оркестр в нашей стране. И может для первого шага, для введения в тему просто посмотреть записи этого концерта.
Посмотреть видео с Гала-концерта конкурса композиторов YouTube
- Галина Юзефович
Книга Дмитрия Бавильского — это в самом деле собрание интервью с соврменными отечественными композиторами от Бориса Филановского до Александра Маноцкова, от Антона Батагова до Тимура Исмагилова. Несмотря на «разговорный» формат книга вполне сгодится в качестве настольной энциклопедии русской музыки ХХI века: в первой части собеседники автора рассказывают ему о своей художественной родословной, а во второй — о том, чем заняты сегодня, чем планируют заняться завтра, а также о том, в чем вообще видят смысл своей деятельности.
- Елена Зиновьева. Вдоль книжной полки
Собеседниками Дмитрия Бавильского, литератора и журналиста, стали почти полтора десятка современных российских композиторов-консерваторцев, тех, кого можно назвать одновременно академическими и авангардными, и — увы! — тех, кто не слишком заметен в нашем культурном пространстве. У них во многом схожие биографии: ранняя музыкальная специализация, длительные заграничные стажировки. Они — люди одного поколения: немного за тридцать, немного за сорок. Кто-то в силу обстоятельств обосновался за границей, кто-то живет и комфортно чувствует себя не только в российской столице, но и в провинции. Знакомство с творцами современной музыки начинается с анкетного опроса, каждому предложено ответить на три вопроса: кто ваш любимый композитор и почему? Какие пластинки или ноты вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Кто из композиторов кажется вам самым переоцененным? Далее идут беседы о классиках, зарубежных и русских, об их творческих — и не только — взаимоотношениях, о влиянии их музыки на умы в прошлом и настоящем, о музыкальных идеях разных эпох и присутствии этих идей в современности. А затем, в следующей главе, обсуждаются проблемы дня сегодняшнего. Сам ход беседы с каждым из участников этих интервью подсказывает интервьюеру вопросы: что такое «классическая музыка» и как она сформировалась? Кто самый значительный в русской тройке XX века — Стравинский, Прокофьев, Шостакович? Вернутся ли к нам неизвестные, не исполняемые ныне шедевры Чайковского? Какое значение имеет творчество Михаила Глинки — и Свиридова и Гаврилина в международном контексте всемирной музыке? Почему в Англии не было великих композиторов? Композиторы размышляют о «новой» музыке наших дней и ее проблемах, говорят о своих личных пристрастиях и эстетических предпочтениях, о роли Интернета в их профессиональной деятельности, о значении музыкальных фестивалей, конкурсов, бизнес-шоу в современной музыкальной культуре. И пытаются ответить на вопрос: что такое современная культура? Антон Батогов: «Можем ли мы сейчас испытать то, что переживали люди в те времена? (эпоха Баха, классики XIX века). А мир в целом превратился в одно сплошное потребление. Музыка окончательно стала фоном. Она звучит везде. Ее уже никто не замечает. Эти колебания воздуха современное ухо приравнивает к тишине. Мы окончательно разучились концентрироваться. Если бы Бах все это увидел, да еще ему показали бы современный рекламный ролик или видеоклип, где один план длится доли секунды, он бы подумал, что оказался в аду. А Гульд подумал бы, что он в психушке. Вот почему мне сейчас хочется играть Баха так, чтобы звуки не проносились мимо, как проносится все, что нас окружает». И удручает музыкальный мейнстрим Олега Пайбердина: «Разнообразие исполнителей и очень узкий репертуар на всех. Нет системы, при которой учитывались бы интересы композиторов.
Государство кивает на Союз композиторов, но эта организация себя исчерпала и находится в глубокой агонии». А размышляя о вопросах интерпретации, Ольга Раева замечает: «И потом, публика ведь ходит наисполнителей, не на музыку. Поэтому можно сказать, что „вопросы об интерпретациях“ — это не только философские/исторические/музыкальные вопросы, занимающие лучшие исполнительские умы, но и вопросы моды, конъюнктуры, пены дней». Они, современные композиторы России, отнюдь не едины в своих суждениях, как не едины в ответах на самый спорный, наверное, вопрос о том, пришел ли конец эпохи композиторов», наступила ли «смерть автора», сочинителя музыки? (В приложениях помещен материал круглого стола, посвященного «случаю Мартынова», автору манифеста о «конце времени композиторов».) Часто замечания композиторов неожиданны и парадоксальны. Так, на вопрос, справедливо ли мнение, что музыку тех или иных композиторов лучше играют соотечественники, Сергей Невский отвечает: лучшего Бетховена делают англичане, Брамса — шотландцы, а Пёрселла — в Перми. Композиторы охотно делятся своими житейскими проблемами: как становятся композиторами, как, на какие средства живет сегодня композитор. Они рассказывают о своих учителях и коллегах, о своих произведениях, замыслах. И говорят о высоком: о гармонии сфер, что такое сегодня музыка, возможна ли сегодня гармония в мире и музыке. О том, как вызревают идеи, о таинстве рождения музыки, об особой профессиональной памяти композиторов. И о том, что «главное в деятельности композитора — это верно и для других искусств — создание смысла, который может быть пережит» (Борис Филановский). Не меломан, не музыковед, Д. Бавильский сделал больше, чем музыкальные критики (а есть ли сегодня такая профессия?): открыл «terra incognitа» серьезной музыки России, и она оказалась прекрасной.
Журнал "Нева" №1, 2015
- Ксения Букша. Искусство слушателя
После книги Элмера Шёнбергера «Искусство жечь порох» у нас еще не выходило такого подробного и полезного сборника о современной музыке, как «До востребования» Дмитрия Бавильского. Полезного не в том смысле, что много можно извлечь оттуда сведений (хотя да, можно и много), а в том, что когда читаешь, хочется лезть в интернет и слушать. Или даже ходить на концерты.
Бавильский взял интервью у современных российских композиторов; поговорил с ними и об их собственных сочинениях, и о контексте, и о старых мастерах, и об учителях. Автор изначально и сознательно стоял в позиции заинтересованного любителя — смотрел на вещи не изнутри, знал гораздо меньше своих собеседников. Ему приходилось, преодолевая себя, задавать вопросы, которые, как он знал, могли бы показаться композиторам глупыми, банальными и прочее — но ведь это те самые вопросы, которые мог бы задать о современной музыке его читатель. При этом Бавильский не остается в позиции профана, он слушает, развивается, изучает контексты, делает выводы. Поэтому разговор и получился интересный, поэтому и эффект такой — читателю тоже хочется пройти этот путь. Никаких предисловий, сразу о деле весьма таинственном: кто знает, что такое музыка сейчас?
Во-первых, мало кому известно, что происходит в актуальной «серьезной» музыке. Сложилась уникальная ситуация: музыка осталась наедине с собой — и вздохнула с облегчением. Она не пытается нравиться широкому кругу, а решает свои задачи. Впрочем, оставаясь при этом музыкой для слушателя, но только добровольного, готового сделать шаг навстречу. Сделавший этот шаг будет вознагражден новыми наслаждениями, это я говорю как человек, недавно открывший для себя, например, Галину Уствольскую, о которой Бавильский поговорил с молодым композитором Георгием Дороховым — перед самой его смертью.
Но неожиданно (во-вторых) оказывается, что все это касается не только музыки современной. Бавильский и его собеседники говорят и о способах восприятия, о том, как играют и слушают музыку прошлого: тот ли самый у нас Бах, что был во времена Баха? Что нам дал Чайковский, что в нем становится слышно, когда слушаешь его в ином контексте? Выясняется, что композиторы, как и мы, предаются в качестве слушателей разным музыкальным порокам и добродетелям. В чем-то их слушание отличается от нашего; в чем-то оно характерно, современно. Но они способны обдумать свое восприятие, и мы можем думать вместе с ними, менять свою точку слушания, заходить в музыку с непривычной для нас стороны.
Вообще говоря, искусство слушания — первое дело для писателя нашего времени. И читать эти интервью приятно уже потому, что вопрошающий умеет слушать и чувствовать не только музыку, но и слова — интонации, эмоции, иронию, печаль. Даже если вы совсем не интересуетесь музыкой, «До востребования» можно рассматривать и просто как сборник бесед; все равно будет интересно. И это тоже возможный источник наслаждения. А открыл нам его не кто иной как Дмитрий Бавильский. Большое спасибо.
- Лейла Гучмазова
Для тех, кто не разучился читать бумажные книги, комплектом к вечеру рекомендуем только что вышедшую книгу Дмитрия Бавильского «До востребования. Беседы с современными композиторами».
Книга с внятным человеческим (и очень правильным русским) языком, читатель знакомится с людьми, которые одновременно отражают и формируют нашу культурную реальность. Конечно, широкому кругу большинство этих имен будет открытием. Для продвинутых белых пятен меньше, но они все равно будут.
©"Ваш досуг" №2 (22 января- 2 февраля 2014)
И уж для всех без исключения эта книга станет универсальной программкой, буклетом и проводником в мир новой академической музыки, заманчивым не меньше, чем мир признанной и обжитой.
- Максим Артемьев
«Я не музыковед и даже, можно сказать, не патентованный меломан» – звучит дерзко для автора почти 800-страничной книги о современных российских композиторах. Тем не менее дерзость представляется оправданной. Дмитрий Бавильский написал книгу о том, что (кто?) является «белым пятном» для массовой аудитории. «До востребования» дает ответ на вопрос – кто сегодня творит «серьезную» музыку в России и творит ли вообще?
В перестройку промелькнули имена Губайдулиной, Денисова, Шнитке (несколько иронически упоминаемых автором) – как замалчиваемых при застое гениях и актуальных композиторах, и… наступила затянувшаяся пауза, характеризующаяся отсутствием звучания каких-либо имен вообще. Я лично до прочтения Бавильского вообще не знал никого из «академических» композиторов нашего времени, хотя и считал себя вполне интеллигентным человеком.
Автор книги выбрал полтора десятка композиторов (не буду называть их имена – перечислять их всех займет много места, а выделять кого-то считаю некорректным хотя бы в силу своей некомпетентности), с которыми у него состоялись обстоятельные беседы. Что является принципиально важным – Бавильский задает им вопросы, которые обычно волнуют неспециалиста. Поэтому «До востребования» должна быть интересна и неподготовленному читателю, ибо о сложных материях в ней говорится вполне доступным языком. Вот только пара вопросов для примера – «Кто ваш любимый композитор и почему?», «Какую бы пластинку взяли на необитаемый остров?» – может быть, звучит банально и наивно, но через них индивидуальность композиторов раскрывается полно и ярко.
А темы, поднимаемые Бавильским, одна другой увлекательнее. И они отражают именно интерес широкой публики. Почему «красивая», гармоничная музыка находится у знатоков под подозрением? Что такое «классическая музыка» и как она сформировалась? Почему в Англии не было великих композиторов? Кто самый значительный в русской тройке XX века – Стравинский, Прокофьев, Шостакович?
Из ответов композиторов мы узнаем имена их учителей – Хельмут Лахенман, Сальваторе Шаррино, Дьердь Лигети, и это служит стимулом, чтобы послушать и их музыку, дабы разобраться с сочинениями их российских последователей.
Не стоит думать, что безумный авангард и циничный постмодернизм отвратили новое поколение композиторов от своих корней. В книге подробно разбирается значение Михаила Глинки, и меня, например, радует высокая оценка «Руслана и Людмилы», столь презираемой в середине XX века, рафинированным эстетом начала XXI столетия. Мы знакомимся со взглядом на соотношение между Глинкой и Чайковским («нашим всем») и на причины непопулярности первого за границей. Собеседник Бавильского смакует неизвестные шедевры Чайковского, сетуя на перекормленность им в советские времена: «…если Чайковского брать в окружении не Корсакова и Кюи, но Брамса, Вагнера, Брукнера или Дворжака, он им совсем не уступает».
Упоминаются, причем во вполне позитивном ключе, даже такие «русопяты», как Свиридов и Гаврилин – убедительное свидетельство того, что ценность музыки не зависит от идеологических клише. Любопытны рассуждения и о том, как Шостакович и Прокофьев реагировали на давление власти, как идеологические штампы отражались на их творчестве.
Структура книги весьма прихотлива – вступительные беседы-презентации с композиторами сменяются их размышлениями о классиках – Бахе, Бетховене, Моцарте, Брукнере, Рахманинове и др., а затем вновь возвращаются к грешной современности – как живут и на что современные авторы музыки? Мы узнаем, как Интернет преобразил профессиональную деятельность и самообразование композиторов, как выбиваются гранты, стипендии, какая существует тусовка и многие другие бытовые подробности, не менее интересные, чем рассуждения о Малере или Глассе.
Откровенные эскапады участников бесед, их прямая речь весьма оживляют текст – «выяснилось, что неоклассицизм, которому Стравинский отдал больше 30 лет жизни, – это полуразложившийся смердящий труп». Книга ценна и как путеводитель по современной музыке, и как неожиданный и оригинальный взгляд на многие привычные имена и явления.
В целом выход «До востребования» можно только приветствовать. Terra incognita таковой больше не является, причем под этой неизвестной землей я имею в виду не только современную «серьезную» музыку, но и музыку прошлых веков, увиденную специалистами из сегодняшнего дня. Остается только посоветовать Бавильскому написать книгу о современных художниках – о них мы тоже, по сути, ничего не знаем.
Читать полностью на сайте Независимой газеты.
- Михаил Визель. Уроки музыки
Композиторы как контрольная группа для постановки культурного диагноза
Эта книга поражает необычностью, штучностью. Известный литератор, автор многочисленных романов выступил здесь в скромной роли интервьюера — и результатом его кропотливой работы оказался почти 800-страничный (!) том интервью с пятнадцатью современными российскими композиторами — из тех, кого можно назвать одновременно академическими и авангардными.
Это удивительный выбор темы. Во-первых, потому, что сам Бавильский ни в коем случае не музыковед и не имеет специального образования (с этого признания он начинает книгу). А во-вторых, потому, что композиторы-консерваторцы, прямо сказать, не самые заметные фигуры современного культурного пространства, в отличие, скажем, от видеохудожников, писателей и уж тем более кинематографистов. Собственно говоря, только благодаря этим последним композиторы в поле зрения простых людей обычно и попадают.
При этом 800-страничная книга не претендует на полноту гипотетической энциклопедии «Современные российские композиторы». В ней нет ни здравствующего патриарха Родиона Щедрина, ни Леонида Десятникова, первого за много десятилетий композитора, написавшего оперу (на весьма авангардное либретто Владимира Сорокина) по заказу Большого театра. Нет и любимца столичных яппи Алексея Айги — хотя на равных с остальными представлены и востребованный минималист Павел Карманов, и автор телезаставок Антон Батагов (хотя, разумеется, и тот и другой интересны далеко не только названным). Не говоря уже про отсутствие музыкантов, ходящих по границе академического авангарда с «новым джазом», таких как Герман Лукьянов и Вячеслав Гайворонский, и с роком, как Роман Суслов (в чьей группе «Вежливый отказ» играет на клавишах и флейте Карманов). Еще парадоксальнее присутствие-отсутствие постмодерниста-минималиста, автора манифеста о «конце времени композиторов» и востребованного кинокомпозитора Владимира Мартынова: интервью с ним нет, зато целый раздел книги «Случай Мартынова» — это мнения о нем других композиторов.
Надо прямо признать: имена этих современных компоновщиков звуков (а также шумов, шорохов, стуков и т. д.), за исключением уже упомянутых Карманова, Батагова и, может быть, Александра Маноцкова, благодаря его сотрудничеству со Школой драматического искусства и «Платформой», известны только в узчайшем кругу. Так что автор не преувеличивает и не драматизирует, когда открывает книгу так: «Каждый человек, соприкасающийся с современной музыкой, чувствует себя Шлиманом, открывающим Трою, — такой огромный и разнообразный мир встает перед имеющими глаза и уши; перед теми, у кого есть воля к узнаванию нового».
Впрочем, Дмитрий Бавильский выступил скорее в роли не археолога Шлимана, а писателя Гюисманса, из романа которого «Наоборот» французские читатели узнали о новейших на то время поэтах-символистах. «Подборка» Бавильского также не случайна. Всем его героям от «чуть за тридцать» «до чуть за сорок» (лишь одному, Георгию Дорохову, скончавшемуся в феврале 2013 года, увы, навсегда останется неполные 29), у них во многом схожие биографии (включающие как раннюю музыкальную специализацию, так и длительные заграничные стажировки), личные пристрастия и эстетические предпочтения. И хоть это нигде ясно не проговаривается, у них схожие жизненные убеждения. Не из самой книги, а из «открытых источников» известно, что Маноцков — активный «белоленточник», а Дорохов в последние годы жизни принимал участие в пикетах и акциях «Другой России».
Короче говоря, они все «люди одного круга». Или, более точно, входят в одну страту: первого поколения постсоветских интеллектуалов, чья молодость или хотя бы детство хоть и прошли за разыгрыванием гамм, все-таки пришлись на тот краткий период, когда тотальный постмодернизм в России победили не только в искусстве, но и в жизни.
И в этом смысле спонтанный (автор тщательно старается сохранить интонацию непринужденного разговора), но основательный труд Бавильского напоминает еще одну необычную книгу — «Писатели и самоубийство» Григория Чхартишвили. Автор, не ставший еще в то время Б. Акуниным, объяснял столь странный выбор сюжета не тем, что писатели как-то особенно склонны к самоубийству, а тем, что он хотел проанализировать проблему, рассматривая выраженное компактное сообщество с достаточно высоким уровнем образования, эмоционального и интеллектуального развития, сообщества, о котором достаточно информации в публичном пространстве.
Профессия композитора тоже очевидно требует достаточно высокого интеллекта, быстроты реакции и склонности к рефлексии; и Бавильский выбрал их в качестве «контрольной группы», способной ярко и контрастно представить интересы и мнения современных русских интеллектуалов, находящихся в расцвете лет и творческой активности.
Чтобы они раскрылись, их надо спрашивать о чем-то интересном, — и интервьюер спрашивает о музыке: об их собственной и об отношении к великим предшественникам от Баха с Бетховеном до Шенберга и Галины Устовольской, любимой ученицы Шостаковича и уже почти нашей современницы (умерла в 2006 году в возрасте 87 лет). И действительно: при этом композиторы выказывают удивительную порой тонкость и оригинальность суждений. Когда же разговор переходит от классиков к современникам, служители муз бывают предельно жестки: «Музыкальный мейнстрим удручает... Разнообразие исполнителей и очень узкий репертуар на всех, — сетует Олег Пайбердин (вам знакомо это имя?), отвлекаясь от Генри Перселла. — Нет системы, при которой учитывались бы интересы композиторов. Государство кивает на Союз композиторов, но эта организация себя исчерпала и находится в глубокой агонии».
- НЛО им. И.С. Баха. Александр Чанцев
Если бы этой книги не было, ее бы очень стоило написать. И Дмитрий Бавильский уже заслуживает похвал и памятника хотя бы потому, что «раскрыл тему» современной классики. Ведь, как ни банально, ее не знают. О ней можно прочесть в музыкальных изданиях? Я их, кроме, вполне возможно, очень специальных, просматриваю – хорошо, если по Новой венской школе или Кейджу что-нибудь издадут.
Рецензии в массовых изданиях? Если о новом джазе напишут или колоритного Теодора Курентзиса упомянут, уже большое спасибо. Бавильский же не только давно еще публиковал серию бесед с неоклассиками в «Частном корреспонденте», но и собрал из них книгу, развив свой замысел.
Кстати, о замысле и опять же актуальности. В предисловии автор пишет, что и его на terra incognita «территорию актуального сочинительства» завело, после любви к классике, даже отчасти интеллектуальное желание освоить и узнать. И еще точное наблюдение – невнимание к этой области не способствует ее популярности и жизненному устройству композиторов (кроме, замечу очевидное, обласканных западными грантами – в той же Германии сейчас, похоже, больше русских композиторов и исполнителей, чем в России, взять хотя бы Ольгу Раеву, Сергея Невского, Александру Филоненко), но сохраняет чистоту эстетического поиска. А «в ситуации заштампованности и тотального формата» что может быть «интересней непредсказуемости»?
Книга, не побоюсь повториться, прекрасна не только тем, что, можно легко поспорить, вы наверняка узнаете новые имена. Но и тем, как вы их узнаете. Потому что после «Увертюры» – высказываний современных о тех, кого они любят из классиков, кто повлиял – идет уже более специальная часть: современники высказываются об отдельных классиках. Дмитрий Курляндский и Александр Маноцков о Моцарте, Тимур Исмагилов и Антон Светличный – о Рахманинове, а о моем, например, любимом Перселле – Олег Пайбердин и Ольга Раева.
Композиторы могут быть очень разными. Говорить очень рафинированно, образно («смаковать под пальцами» Антона Сафронова), иногда действительно заумно (Дмитрий Курляндский). Или «гнать» очень весело, но и действительно умное, как Ольга Раева, например. Иногда они сердиты или обижены, они же люди и очень особенные.
И сколько же можно тут узнать о музыке и даже и не только о музыке! Известно, что Шенберг подумывал эмигрировать в СССР, но вот что Стравинский писал о Леви-Строссе и Маршалле Маклюенне! Еще можно прочесть о «современном полемисте» Бетховене и «религиозном» Сорокине. Узнать, почему у Рахманинова саунд (sic!) – «массивный, какой-то сугубо материальный, маслянистый». А тот же Перселл – бабочка-адмирал. А еще он был инопланетянином. Видимо, прилетевшем на «баховском НЛО».
Я специально шучу, потому что серьезные темы тут – очень серьезны, их очень интересно слушать, но обсуждать неспециалисту – сложно и негоже даже.
Затем еще говорят композиторы – например, что зарабатывать получается, сочиняя для рекламы, что самое полезное для музыки – тишина (с Антоном Батаговым согласились бы очень многие, от исихастов до Кейджа и философа Бибихина), а у Антона Васильева в рабочем компьютере сохранены все серии «Симпсонов» и все сочинения Штокхаузена.
А в приложении они обсуждают «Возможна ли сегодня гармония в музыке и мире» и «Случай Мартынова». И эта последняя часть – единственное, пожалуй, что вызывает вопросы. Потому что Владимир Мартынов, композитор, автор книг и человек с явно выраженной мировоззренческой позицией, самим фактом своего существования провоцирует, кажется, совсем новых на не очень красивые сравнения – так, с Александром Шиловым и Никасом Софроновым сравнивает его Дм. Курляндский, а читателя – на не менее некрасивые предположения – не довольно ли традиционалистские и, одновременно, радикальные («конец времени композиторов») воззрения Мартынова и его популярность вызывают такую реакцию? Тем более жалко, что в книге нет ни одной беседы с самим Мартыновым! Впрочем, как удалось узнать у автора, тому виной лишь напряженный график самого Мартынова…
«До востребования» – изысканная гимнастика для ума и ушей, пища для, смотри выше, даже идеологических споров. И еще эта книга – повод для составления своих треклистов, композиторов и произведений, что хочется послушать. Я, например, грешил этим настолько, что почти ничего не выписал из книги собственно для рецензии. Но и тут ждет беда – на том же вездесущем YouTube’е найти можно далеко не всех и не все…
- Ольга Балла-Гертман. Раздвижной и прижизненный дом
Композиторская деятельность, - утверждает автор с самого начала, - род антропологического исследования. Утверждение, само по себе достойное доказательства и развития в формате отдельной монографии. Однако Дмитрий Бавильский – вообще известный как протаптыватель нетривиальных тропинок в культурном поле, нащупыватель новых форм культурной рефлексии – и на сей раз, по своему обыкновению, идёт иным путём – столь же менее, по сравнению с привычными, предсказуемым, сколь и более плодотворным.
В качестве исследователя – а его позиция, несомненно, и сама по себе исследовательская – Бавильский вступает на едва известную кому бы то ни было, кроме специалистов и совсем уж изощрённых ценителей, территорию новейшей музыки - пишущейся сейчас и прямо на наших глазах создающей собственные принципы. «Поисковой», как говорит на собственном внутреннем, черновом языке сам автор. В общекультурном сознании, даже для вполне образованных людей, музыка этого рода практически не присутствует. Её почти не было до недавнего времени и для самого автора: «для меня, как и для многих из нас, - признаётся он во введении, - современная музыка заканчивалась авангардом 1970-1980-х годов». Но ведь с тех пор прошло уже больше тридцати лет. Чем они были наполнены, что создали?
Автор позволяет композиторам, создающим сегодня «поисковую» музыку, самим осознать и выговорить себя в качестве разведчиков новых смысловых путей. Очень возможно, без его вопросов эти люди, несомненно рефлектирующие и сложные, никогда бы не отважились на публичное самопрояснение в таких масштабах и с такой степенью подробности. В конце концов, пишущим музыку хватает других, несловесных забот. Но Бавильский, пуще того, прямо-таки провоцирует их на это: на установление связей между композиторской практикой, образующими её внутренними движениями, - и словом. Он заставляет их заниматься работой едва ли не философской.
«Как бы вы сами, - обращается автор к композитору Олегу Пайбердину, - определили свою деятельность?» - И оказывается, что запрос был совершенно адекватен: «Я бы назвал это, - говорит Пайбердин, - мыслительной деятельностью, производством смыслов.»
Вот именно это автор в разговорах со своими собеседниками и проясняет.
В составивших книгу диалогах, думаю, стоит видеть продолжение собственного, давнего проекта Бавильского – проекта, лежащего на пересечении художественной и нехудожественной мысли, объединяющего их в себе. Этот проект состоит, в одной из своих доминирующих линий, в том, чтобы прояснять несловесные явления вообще и несловесные искусства в особенности – словом, тем самым исследуя и расширяя диапазон возможностей слова. Именно об этом были некоторые (по моему разумению – наиболее интересные) из его предыдущих книг: «Вавилонская шахта» и «Сад камней»: явления несловесных искусств проговаривались в них как личное, в том числе эмоционально-телесное событие воспринимающего. К ним в этом смысле отчасти примыкает и вышедшая совсем недавно «Невозможность путешествий», где предметом такого проговаривания оказывается взаимоотношение и взаимодействие человека с пространством, дорогами, городами.
Теперь Бавильский подходит к той же самой задаче с ещё не изведанной им стороны - подключая к своему проекту самих создателей искусства. Причём подталкивает он своих собеседников к тому, чтобы свои размышления они адресовали не коллегам по цеху, но собратьям по культуре и времени вообще. «Простому» слушателю, носителю сегодняшнего общекультурного сознания с его запросами, тревогами, стереотипами и очевидностями. Чтобы говорили о сложном – общечеловечески. Во всей книге нет даже ни единой нотной записи – чтобы, видимо, не отпугивать тех, кто не умеет читать ноты: всё – словами. Всё, что вообще поддаётся пересказу - и ещё немного того, что ему не поддаётся. Разговоры предельно живые, с сохранением живых сиюминутных интонаций. Даже со смайликами, попавшими сюда из электронной переписки.
Итак, формально «До востребования» - книга разговоров: автора с теми, кто создаёт современную музыку. Состоит она – следуя в своей форме музыкальным произведениям – из увертюры, двух частей и двух приложений. В первой – «Классики и современники» - современные композиторы обсуждают своих предшественников: от великих немцев – Баха, Бетховена, Вагнера… - до нашей недавно умершей соотечественницы и современницы Галины Уствольской (1919-2006). Фигура каждого из ключевых создателей музыки прошлого обсуждается с одним или с несколькими – чтобы с разных сторон – собеседниками. Во второй части шестнадцать композиторов-современников рассказывают о собственной работе. А затем – два приложения, два «круглых стола»: о возможности сегодня гармонии в музыке и в мире и об одном особенном сегодняшнем композиторе, приблизившемся, по собственным его представлениям, к пределам самой композиторской практики - о Владимире Мартынове, известном своей «метамузыкальной» рефлексией и убеждённостью в том, что «время композиторов» в европейской культуре миновало.
При всём обилии участников и вовлечённых в рассмотрение имён главная фигура здесь, думается, - всё-таки интервьюер, - развивающий, кстати, особое, почти неявное искусство: искусство вопросов. Не говоря уже о том, что и фигуры для обсуждения, и самих собеседников выбирает опять-таки он по собственным соображениям, - так что картина музыкального и внемузыкального мира получается в результате чрезвычайно, до прихотливости, авторская. Слепок с персональных поисков, волнений и вопрошаний Дмитрия Бавильского. Собственная его музыкальная культурология и антропология.
Устами своих собеседников он выговаривает – и их сознаниями осознаёт – то, чего, пожалуй, не смог бы осознать в одиночку: огромные массивы происходящего в современной музыке и в тех областях культуры, которые составляют её контекст и, в конечном счёте, питательную почву.
Во всех этих разговорах музыка рассматривается – не теряя своего культурного измерения – в очень большой степени как человеческий, эмоциональный, биографический, экзистенциальный опыт её творцов и слушателей, как человеческое приключение. Со своими собеседниками автор много говорит об их – вовлечённых в создание музыки, вообще в отношения с нею - человеческих обстоятельствах, пристрастиях, привычках: «Кто ваш любимый композитор и почему?» «За каким инструментом вы сочиняете?» «Правда ли, что у композиторов какая-то особенная память?» «У женщин-композиторов есть какие-то свои специфические особенности?» Собеседники охотно откликаются на такие запросы, рассказывая множество человеческих «околомузыкальных» ситуаций и подробностей (Ольга Раева, в разговоре о Бетховене: «Вы знаете, я прожила два года в Кёльне – это совсем рядом с Бонном, двадцать минут на электричке. Несколько раз ездила туда погулять, и мне показалось, что он [Бетховен. – О.Б-Г.] там всё ещё есть, то есть его можно там найти, почувствовать. А вот в Вене, как ни странно, его почти совсем нет… Впрочем, он ведь переехал в Вену в двадцать два года, уже совершенно сформировавшимся человеком. …И вот эти рейнландские корни слышны в его музыке – слышно, что, в отличие от Гайдна и Моцарта, он совсем не австрияк.» - Курсив автора.). Но пусть эта видимая лёгкость и как бы необязательность не вводят читателя в заблуждение: речь на самом деле неизменно идёт – даже когда собеседники болтают, шутят, рассказывают байки из жизни великих музыкантов - о глубоком и коренном.
Всем множеством своих голосов книга отвечает на один большой, издавна, насколько я понимаю, занимающий Бавильского вопрос: что музыка делает с человеком? И почему именно это? (Похоже, автор чувствует в музыке полноценного, самостоятельного и активного партнёра по диалогу, способного подавать собственные реплики. Характерный для него вопрос, заданный одному из собеседников: «Чем поисковая музыка может ответить на мои усилия?»)
«Простой» слушатель, которому, по идее, адресована книга – чтобы-де ориентировался в безграничном море нынешних звуков - на самом деле, конечно, уловка. Слушатель и читатель здесь требуется изрядно просвещённый, начитанный и «наслушанный». При всей – призванной, по всей вероятности, снимать избыточное напряжение, сокращать дистанцию между читателем и предметом - разговорности свойственных книге интонаций, чтение диалогов Бавильского требует недюжинных знаний. В разговоре о музыке, о её формирующих фигурах, событиях, тенденциях появляются имена режиссёров кино и театра (Кубрик, Любимов), философов (Хайдеггер, Адорно, Друскин), писателей (Дефо, Свифт, Шекспир, Андерсен, Лажечников, Чехов, Хармс, Сорокин, Пелевин…). И постепенно музыка разворачивается перед нами как, по мандельштамовым словам, «раздвижной и прижизненный дом», в который вселяется – и ей там ничуть не тесно – культура вся, целиком.
Перед нами – опять же не стоит обманываться – не путеводитель для желающих знать, что бы такое послушать, не совокупность ориентиров. Хотя да, открывая книгу, автор как будто обещает нам создание чего-то подобного: поняв однажды, рассказывает он об истоках своего замысла, что привычного классического репертуара ему как слушателю начинает не хватать, он отправился в музыкальный магазин – «и долго не мог ничего выбрать». «Смущали незнакомые имена и непонятные названия, а «на пробу» купленные пластинки не принесли никакого удовольствия. Стало понятно: необходим системный подход, с постепенным обучением себя непривычному звучанию.»
Однако из выстраивания «системного подхода» для самого себя, из опытов по трансформации собственного восприятия получилось в итоге именно исследование в диалогах, диалогическое исследование – больше, чем музыки: того, как устроено – и откуда растёт - современное восприятие мира. (Правда, исследование не то чтобы уж очень системное – скорее, как раз напротив. Исследование, которое всеми силами старается не выглядеть таковым, но быть максимально естественным движением речи, свободным разговором: «Важно было выращивать книгу, как растение – чтобы она, открытая всем заинтересованным людям, росла свободно и естественно».) Музыка, по мнению автора, потому лучше всего годится для разговора о устройстве мировосприятия, что именно она наиболее чутко и точно его отражает.
Не говоря уж о том, что его отражение в музыке очень мало – если вообще – осмыслено в общекультурном сознании.
В книге решительно не хватает диска – скорее уж, дисков – с записями музыки, которая в ней упоминается, - чтобы можно было, пусть не понимая её, хоть как-то почувствовать эту особенную звуковую реальность. Впрочем, по всей вероятности, всё упомянутое без труда находится в интернете, - сам автор именно там и находил и своих героев, и их работы. И если читатель, заинтригованный этими разговорами, пустится в самостоятельные поиски и попытается сделать современную музыку частью собственной жизни – одна из задач книги уже безусловно будет выполнена.
И, по-моему, совершенно очевидно, что эта книга (которая – немного вне заготовленных культурных ниш, поверх их границ, она – сама себе ниша) делает первые разнообразные шаги в направлении антропологии современной музыки. Даже шире того – к культурной антропологии звука, которая, хочется верить, - ещё будет написана. И, может быть, что было бы совсем прекрасно, - даже на русском языке.
Издательство Ивана Лимбаха, 2013
Редакторы Анна Инфантьева, Александр Рябин
Корректор Л. А. Самойлова
Компьютерная верстка Н. Ю. Травкин
Н. А. Теплов, дизайн обложки
Переплет, стр. 792
Формат 70х100 1/16